Жизнь после Бога | Страница: 22
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Последний случай был такой: когда мы подросли – Брент, Лори и я,– мы завели у себя канадских гусей. Лори таскала яйца из гнезд по берегам прудов на поле для гольфа; в обклеенной фольгой коробке из-под виски «Джонни Уокер» мы устроили инкубатор, подогреваемый сорокаваттной лампочкой, и дважды в день переворачивали яйца, пока птенцы не проклевывались – событие, сопровождавшееся чудным писком, который звучал еще несколько упоительных месяцев, пока не перерастал в клики взрослых гусей.
Гуси – замечательные домашние питомцы – любопытные, ласковые, преданные и ужасно сообразительные. И такие потешные в придачу. Они сидели рядом с нами на лужайке, пощипывая траву, пока мы Читали дешевые книжки в мягких обложках и поглаживали нежный серый пух у них на грудках. Очень часто они вытягивали свои все более длинные шеи, чтобы ущипнуть нас за уши и издать неокрепший подростковый крик в ненасытной жажде внимания.
Это были наши летние друзья: они ковыляли за нами во время наших прогулок по окрестностям, дудели наподобие автомобильных рожков, шипели на кошек и шустро сбегались к нам со всех сторон, стоило нам остановиться хоть на минутку. В непогожие дни они сидели в доме, как на насесте, на стуле перед пианино, а потом стремглав бросались обратно во двор и к пруду, оставляя за собой след травянистого помета. Столько труда, но и столько удовольствия!
Как бы там ни было, про канадских гусей можно с полным правом утверждать одно: они помнят вас ровно год и один день. Иначе говоря, каким бы космополитичным ни было их воспитание, все гуси неизбежно возвращаются в природу и забывают о семье, в которой они выросли; это печальная правда, которая окрашивает ваши отношения с ними. Но, как я уже сказал, они действительно помнят вас год и один день – на один день в году они возвращаются домой, только однажды.
Обычно это случается очень рано, на заре, когда вы еще глубоко спите. Вас будит знакомый звук – гусиный клич,– и вот вы всей семьей, все с заспанными глазами, бросаетесь во двор. Вы оглядываете пруд и лужайку и нигде не находите ни единого следа ваших старых друзей. Тогда вы смотрите вверх, на крышу – на самый ее конек. Там устроились ваши старые друзья, стоя на самой верхотуре, пухлые, как индейки, которых подают к столу в День Благодарения, счастливые, они трубят в трубы, извлекая их радостные звуки из глубины своих сердец,– давая вам знать, всего один раз, пока вы снизу машете им, что их любовь к вам сильнее тех сил мироздания, которые разделяют вас, которые стирают лучшее, что в вас есть,– память о былом.
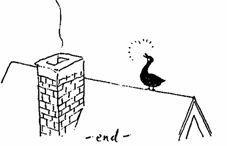
Тысяча лет (Жизнь после Бога)
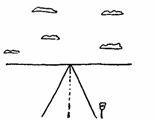
Как все дети из пригородов, мы купались по вечерам в плавательных бассейнах, вода в которых была теплой, как кровь; в бассейнах такого же цвета, как Земля, если глядеть на нее из Космоса. Мы купались нагишом – сорвиголова Стейси с длинными соломенными волосами, точь-в-точь Барби из Малибу; молчаливый силач Марк; Кристи, вся в веснушках, рыжая и строчившая шутками как из пулемета; Джули – глас разума со «среднестатистическими пропорциями»; медово-бронзовый лодырь Дана, у которого все тело было сплошь покрыто загаром и водились подозрительно большие деньги, и, наконец, Тодд, скромник, всегда раздевавшийся последним, но даже и тогда стаскивавший плавки под водой. Мы плавали вот так, нагишом,– воображая себя эмбрионами, зародышами, и молчание наше нарушало только глухое урчание водяного фильтра. В головах не было никаких мыслей, мы плавали в теплых водах с закрытыми глазами, и различие между нашими телами и нашими умами окончательно стиралось – промытое хлоркой и высвеченное беспримесно синим светом прожекторов, установленных под трамплинами. Иногда мы брались за руки, образуя круг, как астронавты в открытом космосе; иногда, разобщенные в своем эмбриональном оцепенении, мы сталкивались друг с другом в глубоком конце бассейна, как близнецы, не знающие даже, с кем им приходится делить утробу.
Потом мы насухо вытирались и ехали в машинах по дорогам, как резьба покрывавшим горы, на которых мы жили,– сквозь перелески, мимо участков, от бассейна к бассейну, от дома к дому, вверх по Сипресс-Боул, вниз к «Парк-Роял» и через мост Лайонс-Гейт,– причем само по себе бесконечное движение заменяло любую другую, более протяженную форму мысли. Мы включали радио, эфир был переполнен песнями о любви и рок-музыкой; мы верили рок-музыке, но, думается мне, не верили песням о любви – что тогда, что сейчас. Мы обитали в раю, поэтому любая дискуссия на трансцендентальные темы становилась бессмысленной. Политика, как нам казалось, существовала где-то в отелевизионенном зарайске; смерть была чем-то вроде переработки вторсырья.
Жизнь была чарующей, но только без политики и религии. Это была жизнь детей потомков первопроходцев – жизнь после Бога – жизнь, в которой спасение можно было обрести и на Земле, находящейся на краю небес. Наверное, это лучшее, на что мы может надеяться,– мирная жизнь, стирающая границы между реальной жизнью и жизнью сна,– и все же, говоря это, я не перестаю сомневаться.
Думаю, что в какой-то момент все же наступила расплата. Думаю, ценой, которую мы заплатили за нашу золотую жизнь, стала неспособность окончательно поверить в любовь; вместо этого мы приобрели иронию, от которой увядало все, чего бы мы ни коснулись. И мне кажется, что ирония и есть та цена, которую мы заплатили за потерю Бога.
Но тут я вспоминаю о том, что мы все же живые существа и у нас бывают – должны быть – религиозные порывы, но только в какие же расселины и щели утекают эти порывы в мире без религии? Я думаю об этом каждый день. Иногда я думаю, что это – единственное, о чем мне вообще следует думать.

От прошлого июля историю с плавательными бассейнами отделяют полтора десятка лет. Именно в июле мой доктор прописал мне маленькие желтые таблетки. Сейчас на дворе январь.
Я переживал один из самых тяжелых периодов в своей жизни – по большей части это выражалось в депрессии и тревоге – не то чтобы мне просто «было грустно». Это было нечто большее. Никакая милая чепуха, вроде дружеских объятий или связки серебристых воздушных шаров, не могла излечить от приступов, снедавших меня на протяжении нескольких предыдущих лет. Маленькие треугольные пилюли доктора Уоткина цвета детского куриного пюре существенно притупили мои ощущения – а мне только того и было надо.
Доктор Уоткин заверил меня, что эти таблетки чрезвычайно распространены и что большинству людей рано или поздно приходится к ним прибегать,– и я должен признать, что они сделали мой характер менее колючим. К тому же я стал намного более «симпатичным» человеком (многие из моих друзей и домочадцев не преминули отметить это). В виде дополнительного преимущества я стал работать более эффективно, словом, превратился в более производительного члена общества. Полагаю, это было нечто вроде пластической операции на мозге.