Жутко громко и запредельно близко | Страница: 7
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
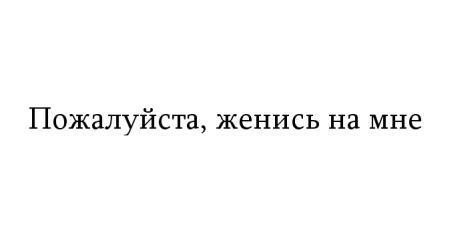
Я отлистнул назад и показал на «Ха-ха-ха!». Она перелистнула вперед и показала на «Пожалуйста, женись на мне». Я отлистнул назад и показал на «Извините, но мельче у меня нет». Она перелистнула вперед и показала на «Пожалуйста, женись на мне». Я отлистнул назад и показал на «Точно не скажу, но уже поздно». Она перелистнула вперед и показала на «Пожалуйста, женись на мне», только на этот раз надавила на «Пожалуйста» пальцем, точно хотела удержать страницу на месте, или положить конец разговору, или прорваться сквозь слово к тому, что по-настоящему пыталась сказать. Я подумал о жизни, о своей жизни — замешательства, крошечные совпадения, тени будильников на ночных столиках. Я подумал о своих ничтожных победах и обо всем, что было разрушено на моих глазах, я плескался в море норковых шуб на постели родителей, развлекавших внизу гостей, я потерял единственного человека, с которым мог бы разделить свою единственную жизнь, я оставил нетронутыми тысячи тонн мрамора, я мог бы высвободить из них скульптуры, я мог бы высвободить из мрамора и себя. Я познал радость, хотя ее было слишком мало, но разве радости бывает достаточно? Конец страданий не оправдывает страданий, потому-то у страданий и не бывает конца, во что я превратился, подумал я, ну и дурак, какой глупый и ограниченный, какой никчемный, какой нищий и жалкий, какой беспомощный. Даже мои домашние животные не знают своих имен, что я после этого за человек? Я приподнял ее палец, как иголку проигрывателя, и стал перелистывать тетрадь назад, страницу за страницей:

ГУГОЛПЛЕКС
А браслет, в котором мама была на похоронах, я изготовил так: я преобразовал последнее папино сообщение на автоответчике в азбуку Морзе и использовал небесно-голубой бисер для тишины, темно-бордовый — для пауз между буквами, фиолетовый — для пауз между словами, а длинные и короткие участки лески между бусинами — для длинных и коротких гудков, которые вообще-то называются импульсами, кажется, или типа того. Папа бы точно знал. Я провозился с браслетом девять часов и сначала хотел подарить его Сонни — бомжу, которого иногда вижу у входа в «Альянс Франсез», [19] потому что у меня из-за него гири на сердце, или, может быть, Линди — опрятной старушке, которая водит бесплатные экскурсии по Музею естественной истории, чтобы стать для нее особенным, или просто кому-нибудь в инвалидной коляске Но вместо этого я подарил его маме. Она сказала, что лучшего подарка в жизни не получала. Я спросил, лучше ли он, чем сдобное цунами, которое я ей подарил в период моего увлечения сдобными метеорологическими явлениями. Она сказала: «Их нельзя сравнивать». Я спросил, любит ли она Рона. Она сказала: «Рон — замечательный человек», что было ответом на вопрос, который я не задавал. Поэтому я спросил снова. «Истинно или ложно: ты любишь Рона». Она провела рукой с обручальным кольцом по своим волосам и сказала «Оскар, Рон мой друг». Мне хотелось спросить, трахается ли она со своим другом, и если бы она сказала «да», я бы убежал, а если бы она сказала «нет», я бы спросил, занимаются ли они глубоким петтингом, про который я знаю. Мне хотелось сказать, что ей еще рано играть в скрэбл. Или смотреться в зеркало. Или включать музыку громче, чем очень тихо. Это нечестно по отношению к папе и нечестно по отношению ко мне. Но все это я запрятал поглубже. Я изготовил для нее еще несколько украшений из морзянки папиных сообщений — цепочку на шею, цепочку на щиколотку, сережки-висюльки, обруч для волос, — но браслет был точно самым красивым, возможно, потому, что я его изготовил последним, и из-за этого он был мне особенно дорог. «Мам?» — «Что?» — «Ничего».
Даже спустя год мне по-прежнему жутко трудно делать некоторые вещи — типа принимать душ (почему-то) и ездить на лифте (само собой). Есть целая куча вещей, которые меня напрягают, типа подвесные мосты, микробы, самолеты, салют, арабы в метро (хоть я и не расист), арабы в ресторанах, кафе и других общественных местах, строительные леса, решетки водостоков и сабвеев, оставленные сумки, обувь, люди с усами, дым, узлы, высокие здания, тюрбаны. Часто у меня такое чувство, будто я в центре огромного черного океана или в открытом космосе, но не как когда балдеешь. Просто все становится запредельно далеким Хуже всего по ночам. Я начал изобретать разные вещи и потом не смог остановиться, как бобры, про которых я знаю. Люди думают, что бобры подпиливают деревья, чтобы строить плотины, а на самом деле из-за того, что у них зубы всю жизнь растут, и если бы они их постоянно не стачивали, подпиливая деревья, то зубы постепенно врастали бы им в морды, и тогда бы бобрам конец. Так было и с моим мозгом.
Как-то ночью после целого гуголплекса изобретений я зашел в папину кладовку. Когда-то мы с ним там боролись по греко-римски и рассказывали уморительные анекдоты, а однажды привесили маятник к потолку и разложили костяшки домино на полу по кругу, чтобы доказать, что Земля вертится. Но после его смерти я туда ни разу не заходил. Мама и Рон были в гостиной — слушали слишком громкую музыку и играли в настольные игры. Мама не скучала по папе. Я взялся за ручку двери, но не сразу ее повернул.
В отличие от гроба, в котором папы не было, в кладовке он был. И хоть прошло уже больше года, там по-прежнему пахло бритьем. Я потрогал его белые майки. Я потрогал его крутейшие наручные часы, которые он никогда не носил, и запасные шнурки от его кроссовок, которые никогда больше не побегут вокруг резервуара. Я обследовал карманы всех его пиджаков (нашел чек за такси, обертку мини-«Крэкла» [20] и визитку какого-то поставщика алмазов). Я влез в его тапочки. Я посмотрелся в его металлический рожок для обуви. В среднем, чтобы заснуть, человеку требуется не больше семи минут, а я не могу уснуть часами, но гирь на моем сердце стало поменьше, когда я оказался среди его вещей и потрогал то, до чего он дотрагивался, и поправил вешалки, чтобы ровнее висели, хотя это уже не имело значения.
Его смокинг висел на стуле, на который он обычно садился, когда завязывал шнурки, и я подумал: Странно. Почему он не висит вместе с другими костюмами? Может, в свой последний вечер он вернулся с какой-нибудь пафосной вечеринки? Но тогда почему, раздевшись, он не повесил его на место? Может, собирался сдать в чистку? Но я не помнил пафосной вечеринки. Я помнил, как он укладывал меня спать, и как кто-то говорил по-гречески на коротких волнах радиоприемника, и историю про Шестой округ. Если бы больше ничего странного я не заметил, я бы не напрягся из-за смокинга. Но я кучу всего заметил.
На полке, на самом верху, стояла зыкинская синяя ваза. Зачем ставить зыкинскую синюю вазу под самый потолок? Дотянуться до нее, само собой, я не смог, поэтому придвинул стул со смокингом, а потом сходил в комнату за собранием сочинений Шекспира, которое мне подарила бабушка, когда узнала, что я буду Йориком, и перетаскал его в кладовку по четыре трагедии за раз, пока не получилась солидная стопка. Я на все это встал, и вроде было нормально. В первую секунду. Но когда я уже почти коснулся вазы, трагедии закачались, и еще этот смокинг запредельно отвлекал, ну а дальше все было уже на полу, включая меня и включая вазу, которая кокнулась. «Это не я!» — крикнул я, но они не услышали, потому что музыка играла слишком громко и тусовка там шла по полной. Я застегнулся на все «молнии» внутри самого себя, но не потому, что ударился, и не потому, что что-то разбил, а потому, что там шла тусовка. Хоть я и знал, что не стоит, я наставил себе синяк.