Полная иллюминация | Страница: 34
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Пускаясь в обратный путь, я слышал ее мурлыканье. О чем я проинформирую героя, когда он перестанет производить храпунчики? О чем я проинформирую Дедушку? Сколько неудач мы еще претерпим прежде, чем сдадимся? Я почувствовал себя придавленным бременем. Как и с Отцом, ты успеваешь изречь «Не больно» всего несколько раз, пока обида не становится сильнее боли. Осознанная обида, я уверен, больнее, чем боль. Неистины свисали передо мной, как плоды. Какую сорвать для героя? Какую для Дедушки? Какую для себя? Какую для Игорька? Потом я вспомнил, что захватил с собой фотографию Августины, и хотя я не знаю, что меня принудило сделать это, я развернулся по кругу назад и показал ее женщине.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
Она изучала ее несколько мгновений. «Нет».
Не знаю почему, но я осведомился снова.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
«Нет», — снова сказала она, хотя это второе «нет» выглядело не попугаем, а другой разновидностью «нет».
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я, и на этот раз держал ее более ближе к ее лицу, как Дедушка держал ее к своему.
«Нет», — снова сказала она, и это выглядело третьей разновидностью «нет».
Я вложил фотографию ей в руки.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
«Нет», — сказала она, но в ее «нет» мне с несомненностью слышалось: «Пожалуйста, упорствуй. Осведомись снова». И я осведомился.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
Она задвигала большими пальцами рук по лицам, как будто пыталась их стереть. «Нет».
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
«Нет», — сказала она и опустила фотографию на колени.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я.
«Нет», — сказала она, все еще экзаменуя ее, но только из уголков своих глаз.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
«Нет». Она снова мурлыкала, на сей раз громче.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?»
«Нет, — сказала она. — Нет». Я увидел, как на ее белое платье сошла слеза. Со временем и она высохнет и оставит след.
«Вы когда-нибудь свидетельствовали кого-либо на этой фотографии?» — осведомился я и почувствовал себя извергом, ужасным человеком, но я был уверен, что исполняю именно то, что нужно.
«Нет, — сказала она. — Никогда. Все они выглядят людьми посторонними». Я все поставил на кон.
«А кто-либо на этой фотографии когда-либо свидетельствовал вас?»
Сошла еще одна слеза.
«Я так долго тебя ждала».
Я указал пальцем на автомобиль:
«Мы разыскиваем Трахимброд».
«О, — сказала она и разрешила слезам течь рекой. — Вы нашли его. Это я».
Времямер, 1941–1804—1941
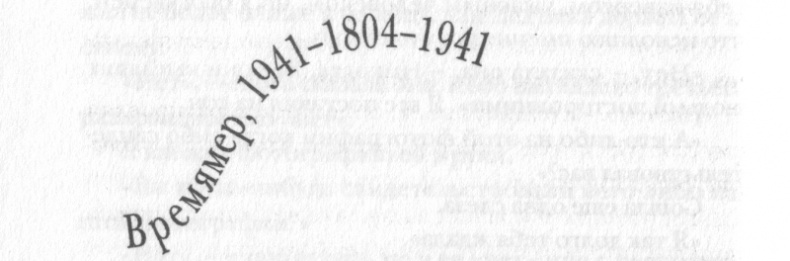
РАСТЯНУВ РЕЗИНКУ большими пальцами, она спустила с бедер кружевные трусики, подставив свои набухшие гениталии игривым касаниям влажных летних ветерков, принесших с собой запахи бузины, березы, бабушкиной бешамели, булькающих бульонов, а теперь вот подхвативших и ее неповторимый животный запах, чтобы нести его на север, от носа к носу, как послание, передаваемое по цепочке школьниками в детской игре, покуда последний, его учуявший, не поднимет голову и не скажет: Борщ? Она высвободила из них ступни с нарочитой неспешностью, будто уже одно это движение могло оправдать факт ее появления на свет, каждый миг родительских усилий, поглощаемый ею с каждым вдохом кислород. Будто оно могло оправдать слезы ее детей, которые непременно пролились бы у ее гроба, не утони она вместе со всем штетлом в реке (на заре юности, как и весь штетл) прежде, чем успела кого-нибудь родить. Она сложила трусики вшестеро в форме слезы и заправила их в карман его черного свадебного костюма так, чтобы из-за лацкана выглядывали лишь раскрывающиеся складки кружевных лепестков, как и положено приличному носовому платку.
Это чтобы ты думал обо мне, — сказала она, — покуда…
Мне не нужны напоминания, — сказал он, целуя влажную мохнатость над ее верхней губой.
Поспеши, — хихикнула она, одной рукой расправляя ему галстук, другой — трос у него между ног. — Ты опоздаешь. Беги к Времямеру.
То, что он собирался сказать в ответ, она утопила в поцелуе; потом оттолкнула его, чтоб уходил.
Лето было в разгаре. Листья плюща, цеплявшиеся за осыпавшийся синагогальный портик, потемнели у оснований. К земле вернулся глубокий кофейный оттенок, и она вновь была готова принимать в себя семена мяты и помидоров. Кусты сирени флиртовали друг с другом над перилами веранды, перила местами начинали крошиться, и крошево подхватывали и уносили прочь летние ветерки. Когда, потея и отдуваясь, мой дедушка наконец прибыл, мужчины штетла уже толпились вокруг Времямера.
Вот и Сафран! — объявил Несгибаемый Раввин под радостные возгласы заполнивших площадь. Жених прибыл! Септет скрипок ударил традиционный Вальс Времямера, и старейшины штетла принялись отбивать такт ладошами, а дети присвистывать фью-фью.
Песнь на Мелодию Вальса Времямера для Вступающих в Брак.
(Исполняется Хором)
Дин-дон, дин-дан!
Собирайтесь на майдан!
Оп-па, уп-па!
Воздвигается хупа!
Подфартило (вставить имя жениха) молодцу
Нашу кралю (вставить имя невесты) взять к венцу.
Уж она ему поможет:
И разденет, и уложит.
Пусть они друг дружку трут —
Это самый лучший труд!
Мы тут будем пировать,
Ну, а вы — скорей в кровать и дин-дон, дин-дан…
[Повторяется с начала и до бесконечности]
Дедушка совладал с волнением, ощупал спереди брюки, удостоверяясь, что ширинка действительно застегнута, и шагнул навстречу длинной тени Времямера. Ему предстояло исполнить священный обряд, через который проходил в Трахимброде каждый женатый мужчина со дня трагического инцидента на мельнице с его пра-пра-пра-прадедом. Ему предстояло пустить на ветер свою холостяцкую жизнь, а вместе с ней, теоретически, и все сексуальные похождения прошлого. Но что поразило его, пока он приближался к Времямеру широким размеренным шагом, была не живописность церемонии или исконная неискренность принятого свадебного ритуала, и даже не то, как страстно ему хотелось, чтобы Цыганочка была сейчас рядом, чтобы его истинная любовь могла погулять вместе с ним на его свадьбе, а то, что он больше не мальчик. Становясь старше, он все больше походил на своего пра-пра-прадеда: те же густые брови, оттенявшие нежные, почти женственные глаза; тот же выступ на переносице; те же складки в уголках губ — в форме галочки (V) с одной стороны и подковы (U) с другой. Отсутствие риска и всепроникающая печаль: он врастал в место, отведенное ему в роду; он все больше походил на отца отца отца отца своего отца, и из-за этого, из-за того, что его раздвоенный подбородок свидетельствовал о том же невообразимом месиве из генов (сваренном распорядителями войн, болезней, возможностей, истинной и ложной любви), ему было заранее обеспечено место в длинной очереди — определенная гарантия на рождение и постоянство, но и обременительная стесненность в поступках. Он не был абсолютно свободен.