Без дна | Страница: 8
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
В один прекрасный день Буллан встречается с Винтра и втирается к нему в доверие. В тот же год Винтра умирает, и Буллан объявляет себя продолжателем дела умершего ересиарха и главным иерархом созданной им церкви. Однако большинство действительных соратников покойного приняли Буллана в штыки. Произошел раскол.
Между тем деятельность Буллана привлекает внимание не только церковных властей, лишивших его сана, но и ведущих оккультистов того времени, боровшихся за чистоту сокровенного знания, против его смешения с откровенно сатанинскими учениями.
Резкую отповедь сексуальным теориям бывшего аббата дал в своей книге «Храм Сатаны» Станислас де Гуайта, доказывающий, что практика, к которой призывает Буллан, ведет к инкубату и суккубату — половому сношению с бесами.
Станислас де Гуайта слыл знатоком таро и каббалы, он был мистиком, поэтом, другом Мориса Барреса, своеобразным рыцарем оккультных наук, неутомимо разоблачавшим разного рода шарлатанов и лжеоккультистов. В 1888 году он вместе с Пеладаном основал в Париже «Высший совет каббалистического ордена розенкрейцеров». Правда, вскоре Пеладан отошел от Гуайты и основал уже свой, католический орден розенкрейцеров, который ставил перед собой задачу выявлять эзотеризм христианского богословия и способствовать приближению царства Святого Духа.
Что же до Станисласа де Гуайты, то он считал себя продолжателем дела Элифаса Леви и преклонялся перед гением Парацельса. Он утверждал, в частности, что связь с умершим возможна только «в духе» и достигается под звуки музыки.
Станислас де Гуайта выступил с разоблачениями Буллана и с угрозами в его адрес, которые последний счел объявлением войны. Вскоре Буллан тяжело заболел и решил, что на него навели порчу розенкрейцеры. Убедив себя в этом, он призвал на помощь все свое мастерство сатаниста, и началось единоборство магов, о котором так подробно пишет в своем романе Гюисманс. Впоследствии розенкрейцеры отрицали, что прибегли к магическим заклинаниям первыми, утверждая, что вынуждены были защищаться. Сам же факт обращения к магическим средствам Станислас де Гуайта, ученик Элифаса Леви, написавшего «Учение и ритуал высшей магии», не отрицал.
Единоборство магов закончилось смертью Буллана, в которой Гюисманс публично обвинил маркиза де Гуайту. Последовал вызов на дуэль, о которой мы говорили в начале статьи.
Таков был фон, на котором разворачивались события, описанные в романе Гюисманса.
В. Каспаров
БИБЛИОГРАФИЯ
Кардек Аллан. Книга медиумов, 1993.
Леви Элифас. Учение и ритуал высшей магии. 1 ч., 1992.
Тухолка С. Оккультизм и магия, 1917.
Alexandrian. Histoire de la philosophic occulte, 1983.
Bricaud. Huysmans occultiste et magicien, 1927.
Bricaud. Huysmans et le satanisme, 1929.
Baldick. Biography of Huysmans, 1938.
Bois J. Le monde invisible, 1902.
Bois J. Le satanisme et la magie, 1898.
Hervé-Masson. Dictionnaire des hérésies dans l’Eglise catholique, 1986.
Hervé-Masson. Dictionnaire des sciences occultes de l’esoterisme et des arts divinatoires, 1987.
Tondriau. Dictionnaire marabout des sciences occultes, 1982.
Wilson C. Occult, 1972.
БЕЗ ДНА {1}
Роман
Перевод романа осуществлен по изданию:
Huysmans Joris Karl. Là-bas. P., Plon, 1924.
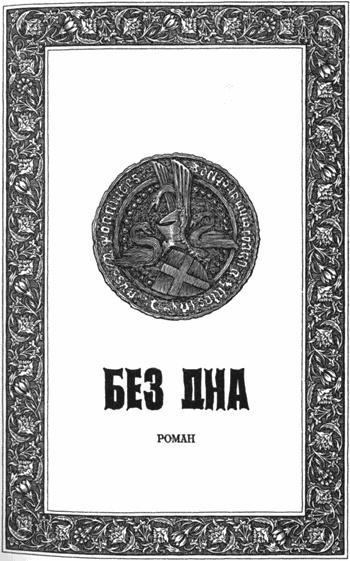
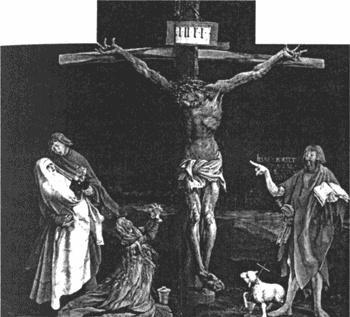
ГЛАВА I
— Ты так поверил в эти идеи, дружище, что бросил привычные темы современного романа — супружескую измену, любовь, честолюбие и взялся писать историю Жиля де Рэ. — Помолчав, он продолжал: — Бог с ним, с топорным слогом натуралистов, с их языком — языком притонов и ночлежек, в некоторых случаях без этого не обойтись; в конце концов, из словесного мусора можно соорудить нечто поистине колоссальное — «Западня» Золя тому примером. Бог с ним, с тяжеловесным, неповоротливым стилем, я упрекаю натуралистов в низменности их идей. Они материалисты, они кадят толпе — вот в чем их грех. И какая непрожеванность мысли, скудость идей, какая недалекость — они стремятся ограничить себя плотским, отбросить сверхчувственное, отречься от мечты, не разумея даже того, что искусство только тогда и выходит на первый план, когда отказываются служить обычные человеческие чувства. Не пожимай плечами, лучше скажи, что увидели натуралисты в тех тайнах, которые подступают к нам со всех сторон, сбивая с толку. Да ничего не увидели. Когда надо объяснить какую-нибудь страсть, измерить, сколь глубока рана, вылечить самую простенькую болячку души, они все списывают на позывы пола и инстинкты. Причиной всему, видите ли, сексуальное влечение да припадки безумия. В общем, они до одури ковыряются в физиологии, доходя до откровенной пошлости, когда дело касается пола. Душевные переживания для них — что-то вроде грыжи, для которой нужен бандаж. Это не просто неумелость или ограниченность, они все вокруг себя заражают, когда восхваляют жестокость нашего века, превозносят новомодный американизм нынешних нравов, опускаются до дифирамбов грубой силе, философии накопительства. С невероятным самоуничижением они потакают низменным вкусам, отказываясь от стиля, отбрасывая всякую возвышенную мысль, всякое стремление к сверхъестественному, запредельному. Натурализм воплотил в себе мещанские вкусы, словно его от господина Оме родила колбасница Лиза из «Чрева Парижа».
— Да будет тебе, — отозвался задетый за живое Дюрталь и, затянувшись папиросой, сказал: — Материализм отвращает меня ничуть не меньше, чем тебя, но это не причина, чтобы отрицать заслуги натуралистов перед искусством, заслуги, которые не канут в Лету, ведь именно натуралисты освободили нас от ходульных образов романтиков и спасли литературу от безмозглого идеализма и стародевического маразма. После Бальзака они первые создали зримые, выпуклые персонажи, обитающие в привычной для себя среде; следом за романтиками они много сделали для развития языка, им не чужд искренний смех, а порой они способны вызвать и настоящие слезы. Да и не носятся они со своими низменными мыслями, как ты представляешь.
— Они обожают современность, а это уже говорит само за себя.
— Какого черта! Разве Флобер или Гонкуры не любили своего времени?
— Согласен! Но это честные художники, бунтари, писатели самой высокой пробы, они сами по себе. Не спорю, Золя — отличный пейзажист, он умело ворочает людскими массами, недаром народ нашел в нем выразителя своих взглядов. В своих романах Золя, слава богу, не довел до логического конца свои позитивистские теории. Но уже у его лучшего ученика Рони, единственного талантливого романиста, проникшегося идеями учителя, это вылилось в псевдонаучный жаргон, в назойливую демонстрацию своего умения подражать наставнику. Право же, натуралистическая школа в том виде, в каком она прозябает сегодня, отражает вкусы нашего ужасного времени. Из-за нее мы докатились до того угодливо пресмыкающегося искусства, которое я бы назвал лакейским. Перечитай их последние книги и сам убедишься! Стиль, напоминающий дешевое цветное стекло, незамысловатые анекдоты, происшествия, заимствованные из газет, перелопачивание одного и того же, сомнительные истории, не подкрепленные мыслями о жизни, о душе. Порой, закрыв книгу, я тут же начисто забываю все эти нескончаемые описания, нудные диалоги; остается только удивляться, как это можно написать триста — четыреста страниц ни о чем.