Детям | Страница: 54
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
– Ну!.. Хрястос Воскреси!..
И мочит сладким теплом мне губы, колется бородой. И только голубоватые сонные глаза я вижу.
Он тихо ставит меня на доску, придерживая за калошки, чтобы все было аккуратно. Я, как во сне, в испуге, в радости непонятной. Я его очень люблю, и лошадь за решеткой. И так хорошо и страшно висеть над лужей. А он, через мою голову, тянется и рычит:
– Домна Семеновна! А Хрястос Воскреси!..
Я слышу, как чмокаются они через мою голову, – раз и раз и еще раз, – боюсь, что упаду в лужу, и схватываюсь за плисовые [52] штаны Михайлы.
– Ну-ну, воистину… насосался уж, батюшка!.. – ворчит нянька, хватая меня за плечи. – Рабенка-то уронишь…
– Домна Семеновна!.. – вскидывает Михайла руки, будто лететь хочет.
– Да уж проходи скорее…
Но проходить нельзя. Узенькая доска, а кругом лужа.
– Пра-аздник, Домна Семеновна… никак нельзя… Пожалуйте вам дорожку!.. – рычит Михайла и бухается в лужу.
Брызгами, блеском и холодком обдает меня, утками, сапогами, солнцем. Черные ноги Михайлы продавливают ледок с хрупом – он теперь виден под желтыми волнами. Я закрываю глаза от ужаса, от счастья. Кричит нянька, кричат утки, куриные голоса… А Михайла идет по воде, размахивает красными руками, пробивает сапогами дырья, откуда высоко фыркает – бьет вода.
– Не потопну!.. – кричит Михайла.
И столько плеска кругом, и блеска, и гомона! Играют-смеются колокола, и утки белыми крыльями, и куры, орущие на бревнах, и кот, махнувший на крышу в снег, и голуби, вдруг взметнувшиеся на хлопающих крыльях, и плещущая лужа, и тысячи солнц на ней. Все смеется, звенит, играет…
Этот весенний плеск остался в моих глазах – с праздничными рубахами, сапогами, лошадиным ржаньем, с запахами весеннего холодка, теплом и солнцем. Остался живым в душе, с тысячами Михайлов и Иванов, со всем мудреным, до простоты-красоты душевной, миром русского мужика, с его лукаво-веселыми глазами, то ясными, как вода, то омрачающимися до черной мути, со смехом и бойким словом, с лаской и дикой грубостью. Знаю, связан я с ним – до века. Ничто не в силах выплеснуть из меня этот весенний плеск, светлую весну жизни… Вошло – и вместе со мной уйдет.
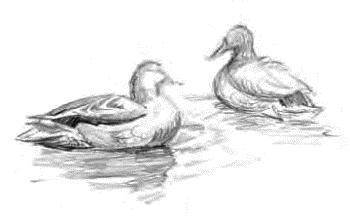
1925
Как я встречался с Чеховым

I. За карасями
Это были встречи веселые, в духе рассказов Антоши Чехонте. Чехов был тогда еще А. Чехонте, а я – маленьким гимназистом. Было это в Москве, в Замоскворечье.
В тот год мы не ездили на дачу, и я с Пиуновским Женькой, – упокой, Господи, его душу: пал на Карпатах, сдерживая со своим батальоном напор австрийской дивизии, за что награжден посмертно Св. Георгием, – днями пропадал в Нескучном. Мы строили вигвамы [53] и вели жизнь индейцев. Досыта навострившись на индейцах, мы перешли на эскимосов и занялись рыболовством, в Мещанском саду, в прудах. Так назывался сад при Мещанском училище, на Калужской. Еще не чищенные тогда пруды славились своими карасями. Ловить посторонним было воспрещено, но Веревкин Сашка, сын училищного инспектора, был наш приятель, и мы считали пруды своими. В то лето карась шел, как говорится, дуром: может быть, чуял, что пруды скоро спустят и все равно погибать, так лучше уж погибать почетно. Женька так разъярился, что оттащил к букинисту латинский словарь и купил «дикообразово перо» – особенный поплавок, на карасей. Чуть заря – мы уже на прудах, в заводинке, густо заросшей «гречкой», где тянулась проточина, – только-только закинуть удочку. Женька сделал богатую прикормку – из горелых корок, каши и конопли, «дикообразово перо» делало чудеса, и мы не могли пожаловаться. Добычу мы сушили и толкли питательный порошок, или по-индейски – пеммикан, как делают это эскимосы.
Было начало июня. Помню, идем по зорьке, еще безлюдным садом. В верхушках берез светится жидким золотцем, кричат грачата, щебечут чижики по кустам, и слышно уже пруды: тянет теплом и тиной, и видно между березами в розоватом туманце воду. Только рыболовы знают, что творится в душе, когда подходишь на зорьке к заводинке, видишь смутные камыши, слышишь сонные всплески рыбы и расходящийся круг воды холодком заливает сердце.
«А, черррт!.. – шипит, толкая меня, Женька. – Сидит какой-то… соломенная шляпа!..»
Смотрим из-за берез: сидит покуривает, удочки на рогульках, по обе стороны. Женька шипит: «Пощупаем, не браконьер ли?» Но тут незнакомец поднимается, высокий, голенастый, и – раз! – тащит громадного карасищу, нашего, черноспинного, чешуя в гривенник, и приговаривает баском таким: «Иди, голубчик, не упирайся», – спокойно так, мастера сразу видно. И кому-то кричит налево: «Видали, каков лапоток?» А это сбоку, под ветлами, Кривоносый ловит, воспитатель училищный. А незнакомец на кукан карася сажает, прутик в рот карасю просунул, бечевочку под жабры, а на кукане штуки четыре, чисто подлещики, с нашей прикормки-то. Видим – место все неудобное, ветлы, нельзя закинуть. И Кривоносый тащит – красноперого, золотого, бочка оранжевые, чуть с чернью. А карасище идет, как доска, не трепыхнется. Голенастый, в чесучовом пиджаке, в ладоши даже захлопал: «Не ожидал, какое тут у вас рыбье эльдорадо! Буду теперь захаживать». Смотрим – и на другой удочке тюкает, повело… Женька шипит: «Надо какие-нибудь меры… самозванцы!» А незнакомец выволок золотого карасищу, обеими руками держит и удивляется: «Не карась – золотая медаль!» Сердце у нас упало. А Кривоносый орет: «А у меня серебряная, Антон Павлыч!..» А незнакомец опять золотого тащит – и плюнул с досады в воду: плюхнулся карасище, как калоша. Ну, слава тебе господи!
Подошли поближе, уж невтерпеж, Женька рычит: «А, плевать, рядом сейчас закину». Смотрим – чу-уть поплавок, ветерком будто повело, даже не тюкнуло. Знаем – особенное что-то. И тот сразу насторожился, удочку чуть подал, – мастера сразу видно. Чуть подсек – так там и заходило. И такая тишь стала, словно все померли. А оно в заросли повело. Тот кричит: «Не уйдешь, голуба, знаю твои повадки, фунтика на два, линь!..» А линей отродясь тут не было. Стал выводить – невиданный карасище, мохом совсем зарос, золотце чуть проблескивает. А тот в воду ступил, схватил под жабры и выкинул, – тукнуло, как кирпич. Кинулись мы глядеть, и Кривоносый тут же. Голенастый вывел из толстой губы крючок, – «колечко» у карасины в копейку было, гармонья словно! – что-то на нас прищурился и говорит Кривоносому, прыщавому, с усмешкой: «Мещане караси у вас, сразу видно!» А Кривоносый спрашивает почтительно: «Это в каком же смысле?.. В Мещанском пруду-с?» А тот смеется, приятно так: «Благородный карась любит ловиться в мае, когда черемуха… а эти, видно, Аксакова не читали». Приятным таким баском. Совсем молодой, усики только, лицо простое, словно у нашего Макарки из Крымских бань. «А вы, братцы, Аксакова читали? – нам-то. – Что же вы не зажариваете?..» Женька напыжился, подбородок втянул и басом, важно: «Зажарим, когда поймаем». А тот вовсе и не обиделся. «Молодец, – говорит, – за словом в карман не лезет». А Женька ему опять: «Молодец в лавке, при прилавке!» – и пошел направо, на меня шипит: «Девчонка несчастная, а еще Соколиное Перо! Черт, сказал бы ему: „Наше место, прикормку бросили“!»