КОГИз. Записки на полях эпохи | Страница: 62
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
– От нас обеих…
– Он нам даже свои стихи читал:
Из динамовских трусов
Вынимаем страусов…
Белкин дослушивать не стал.
4
Он вернулся домой в три. То, что происходит с домом, который убрала женщина, произошло и с квартирой Белкина. Здесь хотелось дышать и жить. Сестренки сидели на кухне и нагло пили чай. Нет, не нагло – уверенно. Белкина это даже обрадовало. Он чувствовал приятную усталость, какая всегда бывает после тяжелой тренировки, и сел с ними пить чай.
– Леш, мы сейчас уйдем…
– Только расскажи нам…
– Мы тут все книжки протирали…
– Разные, и журналы про царей…
– И с картинками…
– А один шкаф заперт…
– Леш, там разные тоненькие книжки…
– А скажи нам, что там?
– Что там?.. Ну, слушайте – чуть подумав, сказал Лешка. – Папа у меня был профессор, его знали многие писатели и поэты. Они ему дарили свои книги с автографами, так называют дарственную надпись, сделанную самим писателем. Папа рассказывал мне, что автографы – это огромный интереснейший мир отношений между людьми. По этой надписи можно узнать о дружбе или вражде автора к тому, кому он подписывает свою книгу. Встречаются автографы с выдумкой, а есть – задушевного содержания. Вот эти книжки и стоят в том шкафу. Кроме того, папа сам покупал в когизе в букинистическом отделе или с рук разные книги с автографами, и они тоже стоят в том шкафу. Любите стихи? Знаете каких-нибудь поэтов?
– Да! Вот недавно Ахматова умерла…
– Про нее передача по радио была…
– Стихи ее читали…
– Очень хорошие…
– Так, тихо, молчите, – Лешка вышел из кухни в прихожую, где стоял большой дубовый книжный шкаф, украшенный львиными головами. Привстав на цыпочки, достал сверху ключ и открыл застекленные створки. Вернувшись в кухню, он обратился к Миле и Рите:
– Вот видите книжечку стихов Апухтина? Внутри здесь надпись: «Милой Анне Андреевне – стихи любезного ее сердцу поэта. Н.». Н. – это Ксения Некрасова – очень хорошая, но малоизвестная поэтесса, ей очень помогала Ахматова, а на форзаце стихи, посвященные моему папе, написанные уже ахматовской рукой:
Не я этим воздухом тяжким дышу,
Не я эти горькие строки пишу,
Не я припадаю к ладони щекой,
Не я, догорая, а кто-то другой.
Спасибо за встречи на этой земле,
В Москве, Петербурге и в Царском Селе,
С той девочкой, женщиной, жрицей любви,
Чья музыка – храм на российской крови.
5
Прощались не вот чтобы сразу, но и не заполночь: много стихов еще было прочитано – сестрички оказались грамотными и уверенными в себе, они как бы поддерживали друг друга, играя в какой-то непонятный постороннему театр. Уже стоя у открытых дверей в белкинском большущем холле, они, вдруг не сговариваясь, снова затараторили, сбиваясь на какую-то тарабарщину:
– Леш!
– А Леш?
– Если что надо…
– Ты только скажи.
– Мы тут же все сделаем.
– И для тебя…
– И для твоей мамы.
– Мы ее любим…
– И очень уважаем.
– Она для нас очень много хорошего сделала…
– Ты ведь не знаешь!
– Она нам книжки дарила…
– Она брала нас с собой в когиз…
– А еще она нам очень помогла, когда наша мама умерла…
– В прошлом году.
– Они ведь с мамой из одной деревни были…
– А мы никто об этом не знали…
– Ни мы, ни ты!
– Они стеснялись друг друга, что ли…
– Только после похорон…
– Твоя мама сказала нам…
– Про это!
– Кланяйся ей в больнице…
– Здоровья пожелай…
– А если можно – поцелуй!
Лешка помнил эти холодные, неуютные похороны прошлой весной. Выносили некрашеную нестроганую домовину из подвала во двор двое алкашей, которых девчонки нашли в тринадцатом магазине, что напротив банка, за бутылку. Те поставили гроб на шаткие дешевые табуретки, которые существуют во всех наших дворах для этих целей и только перебираются из подвала в подвал, из подъезда в подъезд, ненадолго меняя место жительства. Прощаться с покойной – никто не прощался, лишь две старухи оторвали зады от завалинки соседней деревянной развалюхи да перекрестились. За вторую бутылку сестренки уговорили алкашей погрузить гроб в кузов грузовика и поехать на кладбище. Всю эту сцену наблюдали Лешка Белкин, его мама и Саблина, стоя у подъезда своего дома. И в последний момент, когда шофер грузовика закрывал борт машины, мама Белкина вдруг решительно шагнула со словами:
– Я с ними!
– Надя, куда ты? Зачем? Это же другие люди!
Но та уже, встав на табуретку, перелезла в кузов грузовика, где сидели две осиротевшие девочки и два опохмеленных незнакомых мужика.
6
Такая вот история.
А Фимка Грач стал официантом в ресторане «Серая лошадь», потом спился, и его сбил трамвай на Маяковке, напротив ресторана «Волга».
Валера Саблин, «кап-три», был расстрелян в 1976 году за то, что вывел большой противолодочный корабль «Сторожевой» в открытое море и объявил его свободной территорией СССР.
Андрей Докторин кончил «мореходку» и перебрался в Калининград.
Паша Зайцев получил десять лет за то, что убил поленом двух напавших на него в темном переулке хулиганов.
Белкин был комиссован из армии по состоянию здоровья и сошел с ума.
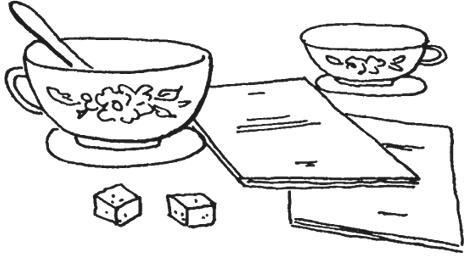
XXIV. Женьшень еще не созрел

Как поступивший на первый курс политеха, Генка обязан был отработать две недели на строительстве нового корпуса. Прораб выдал ему «голички», топор, лом и велел отдирать доски опалубки – вчера залитого бетоном небольшого фундамента. Доски расщеплялись, крошились, но Генка упорно выламывал их из бетонного основания, понимая бессмысленность выполняемой работы и одновременно заставляя себя думать, что это интересно.
– Привет, старик! – услышал он голос. Генка поднял голову и увидел Перфишку. Они давно знали друг друга – учились в одной школе, правда, Генка на год младше. Перфишка был звездой, и его знали даже в других школах города: ни один КВН, ни один вечер отдыха, ни один конкурс не обходился без него.