Дальний остров | Страница: 58
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
В больших городах, в отличие от городков, немало людей случайных… которые небрежно относятся к полученным письмам, теряют их на ходу, выбрасывают. Прохожие обычно не считают эти письма достойными того, чтобы нагнуться и подобрать: там нет, предполагают они, ничего такого, что может заинтересовать, задержать на себе внимание. Но Юстас думал иначе. Он вчитывался в найденные письма, адресованные не ему. Для него это были сокровища, говорящие в полный голос. Раем для Юстаса могло бы стать место, где ему были бы доступны любовные письма каждого, сколь бы ни был он незначительным или даже малограмотным человеком, лишь бы только письма были настоящие. Поистине захватывающим делала его занятие возможность напасть на нечто редкое: услышать подлинный, обнаженный, откровенный голос любви.
В конце концов Чизам так пристрастился к чужим реальным историям, что забросил свое сочинительство и безраздельно посвятил внимание центральной любовной истории романа: безумной, неутоленной страсти между молодым бывшим шахтером Дэниелом Хозом и красивым, светловолосым сельским юношей Эймосом Ратлиффом. Парди во много раз более крупная, сильная и многосторонняя личность, чем сотворенный им Чизам, он автор сорока шести книг, куда вошли его проза, поэзия и пьесы, но ясно чувствуется, что им как писателем движет та же беспомощная завороженность человеческим страданием, то же отождествление себя с ним. Каким бы авторским самомнением мистер Парди ни отличался, каким бы злопыхателем своими публичными заявлениями себя ни выставлял, он, когда берется рассказать историю, каким-то образом сдает все свое «эго» куда-то на хранение и полностью вживается в своих персонажей. Он был и остается одним из самых недооцененных и недопрочитанных писателей Америки. Из его многих замечательных произведений «Юстас Чизам» — наиболее крепкая вещь, лучше всех написанная, самая напряженная по сюжету, самая красивая по построению. Крайне мало послевоенных американских романов, превосходящих эту книгу, и я не знаю ни одного другого романа подобного качества, который более дерзко был бы самим собой. Я люблю эту вещь, и возможность присудить автору премию Фадимана — великая честь для меня.
Наша маленькая планета
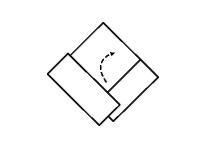
В тысяча девятьсот шестьдесят девятом году поездка на машине из Миннеаполиса в Сент-Луис занимала двенадцать часов, и ехать надо было большей частью по двухполосным дорогам. Родители разбудили меня на рассвете. Я весело, замечательно провел неделю в Миннесоте у моих двоюродных, но, едва мы повернули с дядиной подъездной дорожки на шоссе, они испарились из моей головы, как утренняя роса с капота нашей машины. Я опять был один на заднем сиденье. Я заснул, мама вынула свои журналы, и бремя долгой июльской езды целиком легло на плечи отца.
Чтобы облегчить его, он превратил себя в цифровое устройство. Он обрушивал нашу машину, как топор, на придорожные указатели расстояния, обтесывая почти невыносимые 238 миль до все еще устрашающих 179, колошматя 150, 140, 130 и иже с ними, пока они не разродились более-менее приемлемой цифрой 127, которую можно было округлить до 120, а это — воображал он, обманывая себя, — всего каких-нибудь два часа, хотя впереди на дороге было столько грузовиков со скотом и столько безмозглых, эгоистичных водителей, что, по правде говоря, не два, а ближе к трем. На одной лишь силе воли он расправился с последними двадцатью милями, отделявшими его от двузначных чисел, а эти числа он потом последовательно уменьшал на десятки и дюжины, пока наконец не увидел долгожданное «Сидар-Рапидс 34». И лишь после этого, даря себе единственный за день подарок, он разрешил себе вспомнить, что 34 — это расстояние до центра города, что на самом деле мы менее чем в тридцати милях от парка, где мы любили останавливаться, чтобы перекусить на траве в тени дубов.
Все трое ели молча. Мой отец вынул изо рта косточку мелкой сливы и кинул в бумажный пакет, пальцы его слегка дрожали. Он жалел, что не дотерпел до Айова-Сити: Сидар-Рапидс — это даже еще не полпути, а я жалел, что мы вышли из машины, где работал кондиционер. Сидар-Рапидс был для меня чем-то вроде открытого космоса. Теплый ветер был чужим, не моим ветром, солнце над головой жестко напоминало о неумолимом течении дня, и незнакомые дубы в парке говорили о глубине нашей погруженности в никуда. Даже моей маме мало что было сказать.
Но по-настоящему нескончаемой была езда через Юго-Восточную Айову. Отец делал замечания о высоте кукурузы и черноте почвы, а также о необходимости улучшать дороги. Мама опустила подлокотник переднего сиденья, достала карты и стала играть со мной в восьмерки, пока мне так же не обрыдло, как ей. Каждые несколько миль свиноферма. Вот еще один поворот на девяносто градусов. Вот еще один грузовик, за ним шлейф из пятидесяти машин. Всякий раз, когда мой отец выжимал педаль акселератора и резко шел на обгон, мама шумно, испуганно втягивала воздух:
— Ф-ф-ф-ф-ф!
— Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф!
— Ф-ф-ф-ф-ф — ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф! Ох! Эрл! Ох! Ф-ф-ф-ф-ф-ф-ф!
Белое солнце на востоке, белое солнце на западе. Белые алюминиевые силосные башни на фоне белого неба. Мы ехали под уклон, и казалось, мы уже не один час, равномерно снижаясь, движемся к пушистой зеленой границе штата Миссури, а она все удаляется. Ужас, что до сих пор день, а не вечер. Ужас, что мы до сих пор в Айове. Оставив позади гостеприимную планету, где живут мои двоюродные, мы летим и летим на юг, к тихому, темному дому с кондиционированным воздухом, где я даже одиночество не признаю за одиночество, до того с ним свыкся.
Мой отец за пятьдесят миль не произнес ни слова. Молча взял у мамы из руки очередную сливу и чуть погодя отдал ей косточку. Она опустила окно и кинула косточку в воздушный поток, который вдруг ударил в нос густым запахом торнадо. Южный небосклон стремительно заполняло что-то мглистое, похожее на облако дизельных выхлопов. Темнело, хотя было три часа дня. Бесконечный спуск становился круче, увенчанная султанами кукуруза раскачивалась, и все вдруг позеленело — небо, шоссе, лица родителей.
Отец включил радио и среди трескучих помех стал искать станцию. Он вспомнил — а может быть, всю дорогу не забывал, — что сейчас идет и другой спуск. Помехи, помехи, помехи, безумные атаки на целостность сигнала, но все равно мы слышали мужские голоса с техасским выговором, которые сообщали о неуклонном снижении, вели обратный счет миль в сторону нуля. Потом с диким шипением, как от жарки во фритюре, на наше ветровое стекло обрушилась дождевая стена. Молнии со всех сторон. Помехи разбивали вдребезги техасские голоса, дробь дождя по крыше машины перекрывала гром, машина колыхалась от порывов бокового ветра.
— Эрл, может быть, остановимся, — сказала мама. — Эрл!
Он только что миновал столб с надписью «2 мили», и техасские голоса зазвучали тверже, как будто поняли, что помехи им нипочем, что они все равно своего добьются. И надо же, наши «дворники» уже начали поскрипывать на стекле, дорога высыхала, черные тучи разорвались, превратились в безвредные лоскутья. «Орел прилунился», [61] — сказало радио. Мы пересекли границу штата. Мы снова были дома, на нашей луне.