Леденцовые туфельки | Страница: 116
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
И тогда вдова поставила на стол еще один прибор — для гостьи.
— Ужин я приготовлю, — сказала королева. — Я знаю все ваши любимые кушанья.
— Мы обе его приготовим, — возразила мать. — А тогда уж моя дочь решит…
— Моя дочь, — поправила ее ведьма. — И по-моему, именно мне известен путь к ее сердцу.
Вдова, надо сказать, умела отлично готовить. Но никогда еще она так не старалась, так тщательно не готовила кушанья — ни на Пасху, ни на Святки. Однако ведьма владела магией, и чары ее были весьма могущественными. Разумеется, матери было известно, что ее дочь любит больше всего, но, увы, ведьма знала гораздо больше: ей были ведомы и те блюда, которые девочке еще только предстояло полюбить, и она без малейших усилий ставила их на стол одно за другим.
Начали они с зимнего супа, любовно сваренного вдовой в медном котелке, с мозговой косточкой, оставшейся от воскресного обеда…
Но ведьма предложила легкий бульон, сдобренный нежнейшим, сладчайшим луком шалот, приправленный имбирем и лимонным сорго, а к бульону подала крутоны, да такие хрустящие и крошечные, что они, казалось, сами таяли во рту…
Затем вдова подала второе. Сосиски с картофельным рагу и липким луковым мармеладом — сытное, вкусное блюдо, которое девочка всегда обожала…
Зато ведьма поставила на стол блюдо с куропатками, которых специально откармливали спелыми фигами, а потом начинили каштанами и foie gras, [56] зажарили и подали с coulis [57] из гранатового сока…
Теперь настоящая мать была близка к отчаянию. Но все же подала десерт: пышный яблочный пирог, приготовленный по рецепту ее матери.
А ведьма испекла pièce montée [58] — выдержанную в пастельных тонах сладкую мечту из миндаля, летних фруктов и всяких вкусностей вроде зефира с ароматом розы и крема с ароматом алтея. И к этому — бокал «Шато д'Икем»…
И тогда мать сказала:
— Ладно. Ты выиграла.
И при этих словах сердце ее треснуло и раскололось на две половинки — с таким звуком трещит попкорн на сковороде. А ведьма улыбнулась и раскрыла своей жертве объятия…
Но девочка и не подумала обнять ее. Упав на колени, она стала молить лежавшую на полу вдову:
— Матушка, не умирай! Я же знаю, что это ты!
И тут пронзительный вопль ярости вырвался у Королевы Червей: она поняла, что и теперь, в минуту ее торжества, сердце девочки по-прежнему принадлежит не ей, а родной матери. Ведьма кричала так громко и злобно, что сердце ее не выдержало и лопнуло, точно ярмарочный воздушный шарик, и в своем последнем приступе гнева Королева Червей вообще перестала быть какой бы то ни было королевой.
Что же касается конца этой сказки…
Ну, это зависело от настроения моей матери. Согласно одной версии, мать остается в живых и они с девочкой так и живут до скончания веков в своем домике на опушке леса. Когда же мою мать одолевали мрачные мысли, то под конец вдова все-таки умирала, а девочка оставалась наедине со своим горем. Есть и третья версия: обманщица умудряется предвидеть, что сердце настоящей матери разобьется от горя, и сама падает замертво, но «перед смертью» вынуждает девочку поклясться ей в вечной любви, а несчастная мать стоит рядом, не в силах сказать ни слова, отринутая и бессильная; потом ведьма оживает и начинает кормить…
Анук я эту сказку никогда не рассказывала. Она пугала меня и в детстве, да и сейчас, пожалуй, пугает. В сказках мы ищем и находим истину, и, хотя никто за пределами волшебной сказки не умирает от расколотого на две половинки сердца, Королева Червей все же вполне реальна, хоть и не всегда существует под этим именем.
Нам с Анук и раньше доводилось сталкиваться с нею лицом к лицу. Она — это тот ветер, что дует под конец одного года и перед началом следующего. Она — это звук пощечины. Она — это опухоль в груди твоей матери. Она — это отсутствующий взгляд твоей дочери. Она — это мяуканье кошки. Она — в исповедальне. И внутри той черной пиньяты. Но чаще всего она — это просто Смерть, жадная старая Миктекасиуатль собственной персоной, Санта Муэрте, Пожирательница Сердец, самая ужасная из всех Благочестивых…
И теперь пришло время вновь встретиться с нею лицом к лицу. Собрать все свое оружие — уж какое есть! — и сразиться за ту жизнь, которую мы сами себе создали. Но для этого мне необходимо снова стать Вианн Роше, если только я смогу ее отыскать. Той Вианн Роше, которая не побоялась поединка с Черным Человеком во время праздника шоколада и одержала над ним победу. Той Вианн Роше, которой известны любимые лакомства каждого. Той, что торгует вразнос сладкими грезами, мелкими искушениями и наслаждениями, безделушками, безобидными трюками, дешевыми индульгенциями и повседневной магией…
Только бы мне удалось вовремя ее отыскать!
ГЛАВА 8
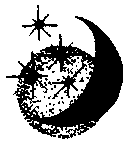
22 декабря, суббота
Ночью, должно быть, шел снег. Его выпало совсем немного, на земле тоненький слой, который мгновенно превращается в серое месиво. И все-таки начало положено. Совсем скоро снег опять пойдет — об этом можно догадаться по тому, какие темные, тяжелые тучи висят над Холмом, почти касаясь церковных шпилей. Ведь это только кажется, что облака легче воздуха, а на самом деле там столько воды, что всего одно облако, по словам Жана-Лу, может весить миллионы тонн, — все равно что огромный многоэтажный гараж вместе с машинами, который только и ждет, чтобы обрушиться нам на голову, не сегодня, так завтра, в виде крошечных снежных хлопьев.
На Холме Рождество идет полным ходом. На террасе кафе «У Эжена» сидит толстый Санта-Клаус, пьет кофе со сливками и пугает детишек. Артисты тоже задействованы, а возле церкви группа студентов колледжа исполняет рождественские гимны и всякие новогодние песенки. Мы договорились с Жаном-Лу утром встретиться на площади, а Розетт хотела (наверное, в тысячный раз) полюбоваться вертепом, так что я и ее взяла с собой — пусть немного прогуляется; все равно мама занята на кухне, а Зози отправилась за покупками.
Утром никто из них даже словом не обмолвился о том, что произошло вчера вечером, но выглядели обе неплохо, так что, наверное, Зози все уладила. Мама надела красное платье, самое свое любимое, и все говорила, говорила — о каких-то рецептах, еще о чем-то, и голос у нее звучал весело и спокойно…
Жан-Лу уже ждал на площади Тертр, когда мы с Розетт туда добрались. С Розетт вечно приходится возиться — засовывать ее в куртку-анорак, натягивать на нее сапоги, шапку, перчатки, — так что было уже почти одиннадцать часов. Жан-Лу, естественно, взял с собой камеру — большую, с какими-то особыми объективами — и фотографировал прохожих, иностранных туристов, детей, толпившихся возле вертепа, толстого Санту, курившего сигару…