В царстве тьмы | Страница: 47
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Суровцев был сыном века без прочных нравственных основ, материалистом в глубине души, несмотря на внешнюю, по привычке, религиозность, в которой истинная вера совершенно отсутствовала. В страшную минуту жизненного испытания ему недоставало нравственной поддержки, померкло сознание долга в отношении семьи, не хватало энергии, которая поддерживает верующего даже в случаях величайших бедствий. В его жизни бывала не одна "сделка с совестью", и в эту минуту ему казалось допустимым даже преступление, если бы только это злодеяние могло спасти его положение, обеспечить ему роскошную и легкую жизнь, к какой он привык.
А жить без роскоши и хорошей еды ему казалось невозможным. Какой пыткой представлялось ему покинуть великолепно обставленный кабинет и богатую квартиру, а затем перебраться в какую-нибудь конуру, перенося вместе с тем знакомые и насмешливые взгляды завистников, которых он не раз подавлял богатством и приемами.
Холодный пот выступил у него на лбу, а из груди вырвался хриплый вздох. Ему уже слышались глумливый смех и безжалостные приговоры: мы-де все предвидели его разорение, такие безумные спекуляции не могли всегда удаваться, а этот мот пожинает лишь то, что посеял.
Рядом же с этой нравственной пыткой быстро созрела решимость покончить с собой, чтобы смертью избавиться от грозивших позора и нищеты.
На мгновение у него мелькнула мысль молиться, просить помощи и поддержки у Отца Небесного, но он отогнал ее: в его душе были только желчь и возмущение.
Он не знал, что в такие мучительные минуты, когда все колеблется и в душе человека поднимается страшный хаос, силы зла, стерегущие всякую людскую слабость, овладевают своей жертвой. Решившись вдруг, он схватил бумагу с пером и принялся писать последние письма, чтобы до света покончить с жизнью. Окончив и запечатав последнее письмо, Суровцев откинулся на спинку кресла и закрыл глаза: он совершенно обессилел и началось головокружение. Почти машинально достал он из стола пистолет и положил перед собой. Все было готово, и он мог несколько сосредоточиться.
Странное состояние, нечто вроде каталепсии, овладело им. Он не мог шевельнуть и пальцем, но глаза, между тем, были широко открыты, и перед ним развертывалась удивительная "галлюцинация". Ему казалось, что из темного угла появился и почти ползком подбирался к нему некий банкир, его "приятель", покончивший с собой за год перед тем, тоже после разорения. Но как он изменился! Темное, искаженное страданием лицо было ужасно, а вокруг кишели и дразнили его омерзительные существа, наполнявшие комнату таким смрадом, что Михаилу Михайловичу стало тошно, и он боялся задохнуться.
Вдруг блеснула полоса красного света и в его пурпурном сиянии исчезли отвратительные призраки, наполнявшие комнату, озаренную точно кровавым заревом. Словно на огненном облаке к нему приближалась высокая и стройная женщина, окутанная широким газовым шарфом с золотой бахромой, который едва прикрывал роскошь ее сложения. Массивные драгоценные уборы украшали шею, руки и щиколотки, широкая диадема поддерживала пышную шелковистую массу распущенных черных волос, словно мантией одевавших ее. Бронзовое, как и тело, лицо было прекрасно, а большие, темные, полуоткрытые глаза смотрели на Суровцева жестоким и свирепым, как у хищника, взглядом. В поднятой руке незнакомка раскачивала золотое, усыпанное точно каплями крови ожерелье, на котором висело пламенное сердце, испускавшее клубы темного дыма, в другой руке она держала красный шнур с петлей. Скользя, как тень, и извивая легкое тело, подобно змее, она начинала безумную пляску вокруг Михаила Михайловича и стоящего посреди комнаты стола. Этому танцу вторила странная музыка, точно в ней слышались стоны, подавленное хрипение, предсмертные крики и слезы. Круги все сужались, танцовщица все приближалась и теперь в адском хороводе приняла участие ватага существ с дьявольскими лицами. Затем демоны как будто окружили Суровцева, развязали шелковые шнуры халата и потащили его, а из темного, дымного облака выделялась поддерживаемая существами с животными лицами статуя женщины с львиной головой, перед которой танцовщица распростерлась ниц…
На другой день, поутру, во всем доме поднялась тревога. Заметили, что Михаил Михайлович не ложился, а кабинет заперт на ключ: сколько ни звали, ни стучали — ответа не было. Тогда дверь взломали.
Первыми в комнату бросились Анна Петровна и Мэри, и глазам их представилась страшная картина. На большом стенном крюке, приготовленном для электрической лампы, висел окоченевший уже труп Михаила Михайловича, лицо которого было отвратительно искажено: повесился он на шелковых шнурах своего халата.
Упавшую без памяти Анну Петровну вынесли и увели обезумевшую от горя Мэри. В полной апатии присутствовали затем несчастные на похоронах, проходивших c пешн o и без всяких пышностей. А впереди их ожидало ужасное пробуждение.
По оставленным Суровцевым письмам и по осмотре его дел они узнали, что от их состояния ничего не осталось. Все пошло с молотка, и ни одна душа не пришла им на помощь. Между кредиторами нашелся, однако, один, который сжалился над несчастной семьей и уговорил других оставить им немного мебели и кое-какие, дорогие им по памяти, но не имевшие ценности вещи.
Мэри не знала, что из всех драгоценностей она увозила только злополучное ожерелье Кали. И вот каким образом.
Во время бедствия одна Аксинья не изменила несчастным господам. Разбирая корзину, по возвращении Мэри из замка Козен, няня нашла футляр с ожерельем и спрятала его. Вещь эта не была внесена в инвентарную опись, а Аксинья, полагая, что она стоит дорого, скрыла ее от продажи и укладывая оставленный Анне Петровне с детьми скарб спрятала ожерелье в коробку, которую положила на дно сундука. Она ничего не сказала об этом ни Мэри, ни ее матери, опасаясь, чтобы они по излишней порядочности не отдали эту вещь кредиторам.
— Когда нечего будет поесть — продадут ожерелье и проживут как-нибудь, — рассудила няня.
Через месяц после смерти Михаила Михайловича семья покинула дом, где столько лет жила счастливо и богато, и поселилась в маленькой квартирке на окраине города.
Книга вторая
В Шотландском замке
"И отвечал сатана Господу, и сказал: разве даром Иов боится Бога? Не Ты ли кругом оградил его, и дом его, и все, что у него? Дело рук его Ты благословил, и стада его распространились по земле. Но простри руку Твою и коснись всего, что у него: наверно он пред лицом Твоим отречется от Тебя".
Иов, 1, 10, 11 и 12.
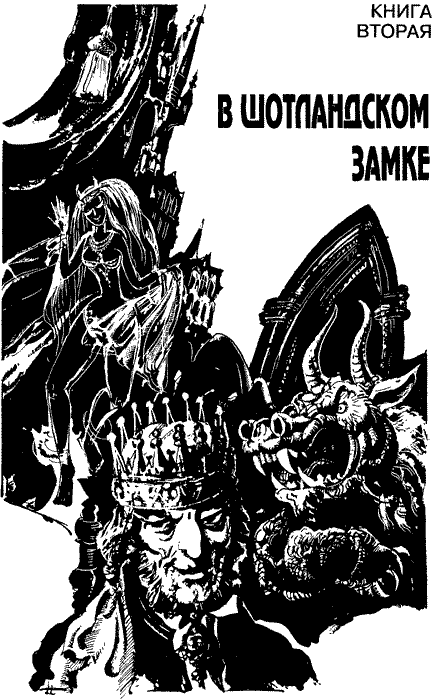
ГЛАВА 1.
Шел рождественский сочельник и на думской колокольне пробило половину шестого, погода стояла весь день сырая и холодная, а к вечеру с моря задул ледяной северный ветер и крупные мокрые хлопья снега как иглами хлестали лица прохожих. Однако, несмотря на такое ненастье, в Гостином Дворе перед Рождеством была толкотня, и петербуржцы, богатые и бедные, суетились, делая праздничные покупки. В мерцавшем свете электрических фонарей, затянутых точно дымкой пеленой падавшего снега, сновали во всех направлениях кареты и сани, собственные и извозчичьи. В галереях, наоборот, лился потоками свет, озаряя, как днем, богатые зеркальные стены магазинов и нагруженных пакетами озабоченно сновавших людей. Под сводами кое-где разместились женщины и дети, скромно торговавшие дешевкой для елки: золотыми и серебряными нитями, стеклянными звездами, деревянными игрушками и т. д.