Золотой жук | Страница: 30
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Это было в Венеции, под украшенной барельефами аркой Ponte dei Sospiri [63] , — там я в третий или четвертый раз встретил того, о ком говорю. Смутно припоминаются мне обстоятельства нашей встречи. Но я помню — и могу ли забыть? — глубокую полночь, Мост Вздохов, красоту женщины и Гения Романтики, носившегося над узким каналом.
Была необыкновенно темная ночь. Большие часы на Пьяцце пробили два часа — итальянский вечер кончался. Площадь Кампанильи опустела и затихла, огни в старом герцогском дворце погасли один за другим. Я возвращался домой с Пьяцетты по Большому каналу. Но, когда моя гондола поравнялась с устьем канала св. Марка, дикий, отчаянный, протяжный женский вопль внезапно разнесся среди ночной тишины. Пораженный этим воплем, я вскочил, а гондольер выронил свое единственное весло, и так как найти его в этой непроглядной тьме было невозможно, то мы оказались во власти течения, которое в этом месте поворачивает из Большого канала в Малый. Подобно огромному черному кондору, тихонько скользили мы к Мосту Вздохов, когда тысячи огней, загоревшихся в окнах и на лестницах дворца, внезапно превратили эту угрюмую ночь в багровый, неестественный день.
Выскользнув из объятий матери, из верхнего окна высокого здания в глубокий и мрачный канал упал ребенок. Спокойные воды безмолвно сомкнулись над своей жертвой, и, хотя ни одной гондолы, кроме моей, не было поблизости, много смелых пловцов уже разыскивали на поверхности канала сокровище, которое — увы! — можно было найти только в его пучинах. На черных широких мраморных плитах у входа во дворец стояла фигура, которую никто, однажды видевший ее, уже не мог забыть. Всего несколько ступенек отделяло ее от воды. То была маркиза Афродита — кумир Венеции, воплощенное веселье, красавица из красавиц — молодая супруга старого интригана Ментони и мать прелестного ребенка, первого и единственного, который теперь в глубине темных вод с тоской вспоминал о ласках матери и, тщетно борясь за жизнь, пытался произнести ее имя.
Она стояла одна. Маленькие босые серебристые ножки ее отражались в черном мраморе. Волосы, которые она еще не успела освободить на ночь от бальных украшений, окружали, словно грозди, ее классическую головку, спадая среди мерцающих бриллиантов крутыми кудрями, похожими на завитки распускающихся гиацинтов. Белоснежное покрывало из легкой прозрачной ткани, казалось, составляло ее единственную одежду; но летний ночной воздух был тяжел, душен и неподвижен, и сама она стояла, как статуя, и поэтому ее воздушный покров ниспадал складками, подобными мраморным одеждам Ниобеи [64] . И — странное дело! — огромные блестящие глаза ее не были обращены вниз — к могиле, поглотившей ее лучезарнейшую надежду, — они устремились совсем в другом направлении. Допускаю, что тюрьма Старой Республики — величественнейшее здание Венеции; но как могла эта женщина смотреть на нее так пристально, когда ее родное дитя задыхалось внизу, у ее ног? Что было в той темной мрачной нише, как раз против окон молодой женщины, в ее тенях, в ее архитектуре, в ее обвитых плющом тяжелых карнизах, — чего маркиза де Ментони не видала уже тысячу раз? Нелепость! Кто не знает, что в такие минуты глаза, как разбитое зеркало, умножают отражения своей скорби, и горе, которое здесь, возле них, кажется им таким отдаленным.
На много ступеней выше маркизы, под аркой шлюза, одетый во фрак, стоял сам Ментони, напоминавший сатира. Он был до смерти ennuyé [65] и, давая указания, где искать ребенка, по временам брал аккорды на гитаре. Ошеломленный, охваченный ужасом, я не мог пошевельнуться и, вероятно, показался взволнованной толпе зловещим призраком, когда, выпрямившись, бледный, оцепеневший, плыл мимо нее в своей траурной гондоле.
Все усилия оставались тщетными. Большинство самых сильных пловцов уже прекратило поиски, покорясь угрюмому року. Казалось, остается уже мало надежды (насколько же меньше для матери!), как вдруг из темной ниши, о которой я упоминал, в полосу света выступила мужская фигура, закутанная в плащ, на мгновение остановилась на краю отвесной стены и ринулась в канал. Минуту спустя он уже стоял на мраморных плитах перед маркизой с еще живым и не потерявшим сознания ребенком на руках.
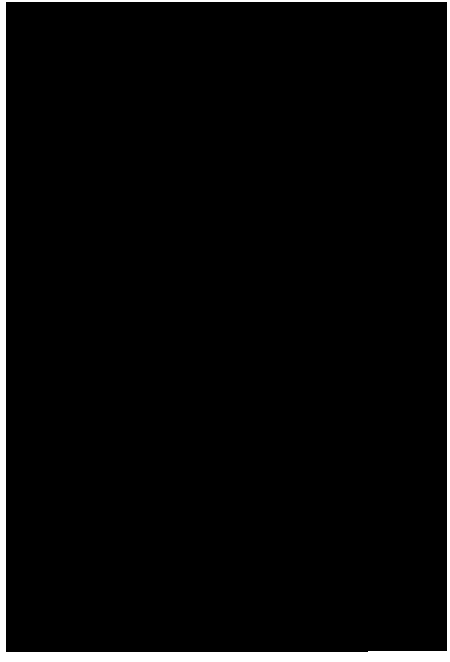
Промокший плащ, отяжелев от воды, соскользнул с него и лег складками у его ног, и взорам изумленных зрителей предстала изящная фигура юноши, чье имя гремело тогда по всей Европе.
Ни слова не вымолвил спаситель. Но маркиза!.. Вот она схватит ребенка, прижмет его к сердцу, обнимет его драгоценное тельце и покроет его бесчисленными поцелуями… Увы! Другие руки приняли ребенка, другие руки подняли и унесли его, не замеченного матерью, во дворец. А маркиза? Ее губы, ее прекрасные губы дрожат; слезы застилают глаза ее, глаза, к которым можно применить слова Плиния о листьях аканфа: «нежные и почти текучие». Да, слезы стояли в ее глазах — и вот женщина очнулась, статуя ожила. Бледное, мраморное лицо, выпуклость мраморной груди, даже чистый мрамор ног залились волной неудержимого румянца, и легкая дрожь поколебала ее нежные формы, как колеблет тихий ветерок Неаполя пышные серебряные лилии в траве.
Почему бы она могла покраснеть? На этот вопрос нет ответа. Неужели потому, что в ужасе и тревоге материнского сердца забыла надеть туфли на свои крошечные ножки, накинуть покрывало на свои венецианские плечи? Чем еще объяснить этот румянец? Блеск этих зовущих глаз? Необычайное волнение трепещущей груди? Судорожное пожатие дрожащей руки — руки, которая случайно опустилась на руку незнакомца, когда Ментони отвернулся, уходя во дворец. Чем еще объяснить тихий, необычайно тихий звук непонятных слов, с которыми она торопливо обратилась к нему на прощанье? «Ты победил, — сказала она (или я ошибся, и то был ропот вод), — ты победил: через час после восхода солнца мы будем вместе!»
* * *
Смятение прекратилось, огни во дворце погасли, а незнакомец, которого я узнал теперь, еще стоял на ступенях. Он дрожал от неизъяснимого волнения, его взор искал гондолу. Я предложил ему свою, и он принял мое любезное предложение. Раздобыв весло у шлюза, мы поплыли к его дому. Он быстро овладел собой и вспоминал о нашем прежнем мимолетном знакомстве в весьма сердечных выражениях.
Есть вещи, относительно которых я люблю быть точным. Это относится и к личности незнакомца. Я по-прежнему буду так называть его, ибо для всего мира он все еще оставался незнакомцем. Роста он, пожалуй, был ниже среднего, хотя в минуты страстного волнения тело его как будто вырастало и не подходило под это определение. Легкий, почти хрупкий облик обещал скорее отвагу и волю, какие он проявил у Моста Вздохов, нежели геркулесову силу, пример которой он, как известно, не раз выказывал без труда и в более опасных случаях. Рот и подбородок молодого бога, удивительные, страстные, огромные влажные глаза, оттенок которых менялся от чистого орехового тона до блестящей черноты, и густые вьющиеся темные волосы, из-под которых ослепительно сверкал необычайно высокий белый лоб, — такова была его наружность. Столь классически правильного лица я не видывал, разве что любуясь статуями императора Коммода [66] . Наружность его была из тех, какие случается встретить только раз в жизни. Лицо его не отличалось каким-либо особенным выражением, которое врезается в память; увидев это лицо, вы тотчас забывали о нем, но потом не могли отделаться от смутного и неотвязного желания восстановить его в памяти. Даже самые мимолетные страсти мгновенно отражались на этом лице, как в зеркале, но подобно зеркалу оно не сохраняло никаких следов исчезнувшей страсти. Расставаясь со мной в эту ночь, он просил меня, и как будто очень настоятельно, зайти к нему завтра утром пораньше. Исполняя эту просьбу, я вскоре после восхода солнца уже стоял перед его палаццо — одним из тех угрюмых, но сказочно пышных зданий, которые возвышаются над водами Большого канала, неподалеку от Риальто. Меня провели по широкой витой мозаичной лестнице в приемную, изумительная роскошь которой, едва я вошел, ослепила и ошеломила меня.