Младенец и черт | Страница: 4
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
– Место, где спрятана папка, – с готовностью ответил тот. – Видите ли, она большая, желтая такая. Я ведь как? Несколько листов перепишу, трубочкой скатаю и за пазуху. Но с территории не вынес, честное-благородное слово. Только из секретной части. Он на меня давил, запугивал, а я всё тянул. Я же русский офицер…
– Как собирались вынести папку с территории корпусного штаба? – перебил мерзавца Козловский. – Не юлить!
– Слушаюсь. План был такой. Перетащить по частям в тайник, а потом…
Немец, до сей секунды стоявший смирно и беспрекословно выполнявший все распоряжения филеров («Боком!» «Руку вверх!» «Ноги шире!»), взревел от ярости. Рванулся с места, подлетел к Рябцеву и с воплем «Трррус!» влепил поручику звонкую пощечину. Увернулся от растопыренных рук Лучникова, штабсротмистра оттолкнул плечом и с разбега перемахнул через ограду – прямо в кусты.
Двое филеров кинулись за ним, Козловский дунул в свисток, Лучников закричал ребятам из оцепления: «Не стрелять! Живьем!», а поручик схватился за лицо и завыл.
– Что вы, как девка?! – рявкнул на него князь. – Подумаешь, рана!
На щеке у Рябцева сочилась тонкая царапина. Это резидент его перстнем ободрал, понял Козловский.
Но предатель вдруг схватился за горло, всхрипел и забился в руках у агентов. Сердечный припадок, что ли?
– Яд! – охнул Лучников. – Мгновенного действия! «Ку-ра-ра» называется. Я раз такое уже видал. В пятом году, когда японского диверсанта брали. У него в кольце иголка была. Чиркнул себя по горлу…
А отравленный больше не дергался, повис кулем, только нога еще судорожно скрежетала каблуком по цементу.
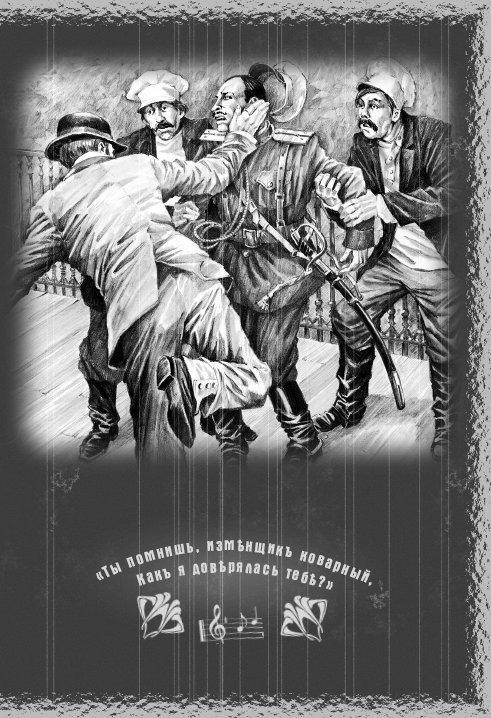
У штабс-ротмистра на лбу выступил холодный пот.
– Мерзость какая! Того-то не упустят?
– Не должны, всё обложено. Ну-ка, от греха…
И Лучников побежал по перрону – не в том направлении, куда скрылся резидент, а наискосок, каким-то собственным азимутом.
Козловский – не стоять же на месте – похромал вдогонку.
Сердце так и заходилось от тревоги. Очень уж прыткий попался немец.
Бородатый шпион оказался еще прытче, чем представлялось штабс-ротмистру.
Моментально продравшись через кусты (у преследователей это получилось куда медленней), резидент широкими скачками понесся прямо на второе кольцо оцепления – под фонарем, перегораживая переулок, маячили два агента.
Не тратя времени на предупредительные окрики, они бросились беглецу наперерез. Один прыгнул в ноги, второй хотел завернуть руку.
Только не на того напали. От ножного захвата немец увернулся, да еще поспел врезать филеру носком ботинка по виску. Со вторым схватился и вышел из короткой, яростной схватки победителем. Так впечатал противнику лбом в нос, что служивый рухнул без памяти.
На повороте резидента сшиб подножкой агент из третьего кольца. Оба покатились по земле, и снова бородатый поднялся, а филер остался лежать.
Беглец обернулся. На него, отставая шагов на тридцать, неслись Лучников и еще несколько человек. Сзади, припадая на правую ногу и захлебываясь матюгами, поспевал штабс-ротмистр.
Одно движение, и резидент исчез за углом.
– Вы двое по забору! – быстро распорядился Лучников. – Вы трое налево! Михалыч, Степа, за мной! Врёт, паскуда, не уйдет!
И точно, не ушел. Недолго довелось побегать шустрому немцу. Путая след, он махнул через штакетник в какой-то сад, перескочил через ограду с противоположной стороны – и угодил прямо на Лучникова со товарищи. Пантелей Иванович всё рассчитал точно, ибо старый коняка борозды не испортит.
Бородач и тут без борьбы не дался. Врезал Михалычу по сопатке, Степу лягнул в неподобное место, но завалили-таки голубя. Забарахтались в траве – упрямый перец-колбаса всё не сдавался.
Поскольку все четверо были люди серьезные, управлялись без криков, без ругани. Из-под забора, где шла баталия, доносилось лишь кряхтение да хриплые выдохи.
Четвертью часа ранее на близлежащей даче
Насчет кота-мурлыки Лучников выразился, конечно, грубо, но в сущности был недалек от истины.
Слушателей было человек двадцать, но пел сегодня Алеша исключительно для Симочки Чегодаевой. Ей посвящались и «Ария Роберта», и «Серенада Смита» (последняя дважды, на бис).
Обожаемая особа почти не поднимала на певца взгляда, но отлично всё чувствовала. Грудь самой милой на свете девушки вздымалась, глаза были затуманены. И это было для Алеши наградой во стократ более драгоценной, чем любые аплодисменты.
Какое все-таки счастье, какой чудесный дар судьбы – голос! Берешь написанную кем-то музыку, не тобою сочиненные слова, наполняешь эти звуки своей силой, своим чувством, и мир вокруг озаряется твоим сиянием, будто ты не смертный человек, а животворное солнце.
С особой страстью, глядя прямо на любимую, Алеша пропел:
Озари стон ночи улыбкой
И стан твой гибкой
Обниму любя!
Она вся так и затрепетала. О, если б это был не журфикс на даче адвоката Лозинского, а девственные джунгли или африканская саванна, где не существует светских условностей и всё покорно закону природы, Симочка сама кинулась бы к нему в объятья! В это мгновение – несомненно!
Того же мнения была и Антония Николаевна, Симочкина мама. Она стояла в кругу знакомых дам и наблюдала за дочерью с всё возрастающей тревогой.
– Как молодой Романов поет – чудо! – сказала мадам Лозинская. – Ужасно мил. А руки, руки! Порхают по клавишам, словно две белые голубки!
Да, чрезвычайно опасен, думала Антония Николаевна. Черный смокинг в сочетании с накрахмаленной рубашкой и белым галстуком всем мужчинам к лицу, а уж этот – просто принц. Опять же баритон. Промедление смерти подобно. Бедная Сима.
Во взгляде, брошенном на дочь, читались сочувствие, но в то же время и твердость.
Извинившись, госпожа Чегодаева подошла к Симе и вывела ее из гостиной на террасу.
– Нам нужно поговорить.
Та, дурочка, смотрела на мать влажными коровьими глазами. Что у нее на уме, догадаться было нетрудно.
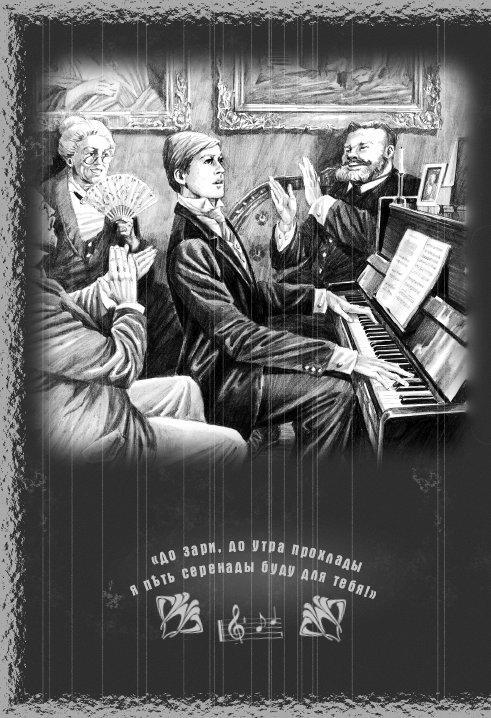
– Он тебе не пара, – отрезала Антония Николаевна.
– О чем ты, мама?
– Ты знаешь, о чем. Довольно того, что я загубила свою жизнь, выйдя за красавца, который чувствительно пел под гитару. Не повторяй моих ошибок!