Кепка с карасями | Страница: 35
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Сынок, беги в деревню, зови врача! Куда я дену-то его, если не встанет?
Я наклонился и стал разгребать грязь с груди лежащего. Засветилась медная военная пуговица. Так холодно показалось прижимать к ней ухо, безнадёжно — слушать под ней, как слушать отпиленную чурку. Я прислонил ухо, но не услышал ничего: ни боя, ни толчка — всхлипывала, пищала дождевая вода, пропитывая землю!
— Дядь, дядь! — закричал Генка. — Ведь он одетый! Одежда не пускает ток!
— Фу, чёрт!.. Разгребай, разгребай скорее… Надо раздеть…
Я схватился за пуговицу, рванул… Где нож?
— Как же я забыл! — стонал Грошев. — Раздеть надо… Где нож? Режь, разрезай китель.
— Ген, посвети… Да нет, сюда свети!
Намокшая одежда выскальзывала из рук, растягивалась, как резина, коробилась, как жесть, и нож был туп, не резал нитку.
— Оставь сапоги… Сюда свети…
Мы разорвали, разрезали одежду, узлом сложили под голову Николая и снова стали закидывать его землёй.
Сейчас, сейчас, ещё немного, и всё будет в порядке, земля высосет молнию, высосет, выпьет, вберёт в себя вместе с дождевою водой.
— Надо железо приложить!
— Какое железо? Где оно? Засыпать полагается…
— Дядь, дядь, ружьё, оно железное.
Я поднял ружьё, грязное и мокрое, разрядил. В замках его влажно заскрипела земля. Положил стволами на грудь Николая и стал водить по груди, по лицу.
— Хорошо, хорошо, сейчас оживёт, — говорил Генка. — Оживает, оживает…
— Поздно, — сказал Грошев. — Беги, сынок, в деревню. Зови мужиков.
— Води, дядь, води, он оживёт, вот увидите…
— Беги, Ген, в деревню.
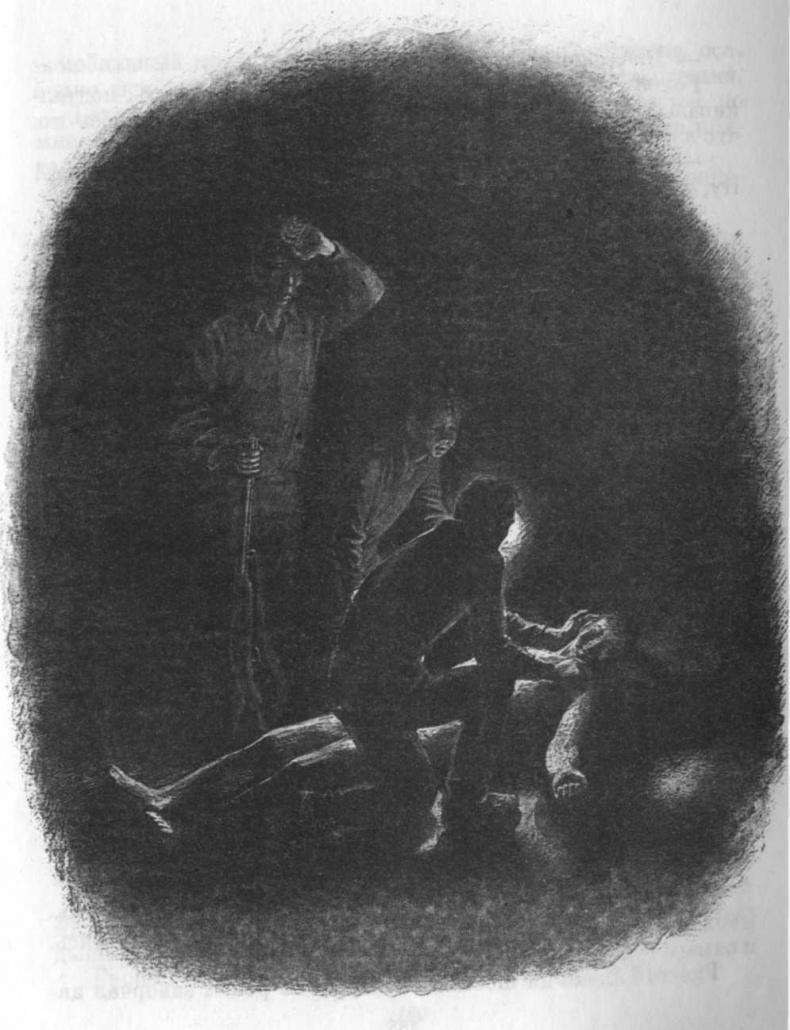
— Да ещё не поздно. Води ружьём, дядь.
Голос Генкин дрожал, он хватал меня за локоть, подталкивал, торопил. Видно, в голове его не укладывалось то, что в моей уже уложилось. Я бросил ружьё.
— Дядь, дядь, надо что-то придумать. Придумай, дядь! Ну, скорее!
— Надо искусственное дыхание, — сказал я.
— Какое дыхание! — раздражённо вдруг крикнул Грошев. — Засыпать полагается! — и тут же обмяк. — Ну, делай, делай дыхание-то.
— Да я и сам не знаю, как его делать.
— Руками же надо разводить! — умоляюще сказал Генка. — Быстро-быстро!
Ткнув руку под затылок, я приподнял с земли голову Николая, а другой рукой надавил на грудь, отпустил, ещё надавил, отпустил. Генка схватил его руку и принялся быстро раскачивать её к груди и обратно, и Грошев подхватил другую руку.
— Сейчас оживёт, — убеждал Генка. — Ещё, ещё…
— Раз-два… — стал приговаривать я.
— Раз-два… Раз-два… — поддержал Генка. — Дыши, дыши…
Мы сами дышали сильно и шумно, как будто хотели увлечь, заразить своим дыханием человека, лежащего на земле. Сколько же времени прошло, как кончилась гроза?
— Вставай, дядь, вставай, — приговаривал Генка.
— Землёй надо засыпать, — бормотал Грошев. Он отставал, сбивал с ритма.
— Раз-два… раз-два… — твердил Генка и не давал нам остановиться.
Наконец Грошев отпустил руку Николая, снял шляпу.
— Что я бабе его скажу? — спросил он.
— Тише, тише… Он дышит!
В голосе Генки прозвучала такая уверенность, что мы замерли, затаили дыхание, а он склонился, прислушиваясь, к самым губам Николая.
Где-то далеко на шоссейной дороге за рекой заворчал автомобильный мотор. Шумно вздохнула овца. Последние, особенно тяжёлые капли падали на землю с листьев картошки.
Генка потрогал меня за руку, чуть-чуть прижался ко мне. Мы с ним были уже вроде родственники — вместе прятались от грозы, ловили овцу.
— Придумай что-нибудь, — попросил Генка. — Придумай, дядь. Он оживёт.
— Можно воздух вдуть, — нерешительно сказал я.
— Вдувай! Вдувай! — сразу обрадовался Генка. — В нас воздух живой. Он войдёт в него и оживит.
— Да уж поздно.
— Вдувай, дядь, — просил Генка, обнимая мою руку, гладил рукав, как будто я был человеком, способным вдуть живой воздух.
Грошев насторожённо слушал нас. Овца легла на землю, задёрганная верёвкой.
— Ну, посвети.
Я отдал фонарь и наклонился над человеком, пластом лежащим на земле. Огромной картофелиной казалось в свете фонаря его лицо. Ладонями я сжал его щёки, вздохнул глубоко, будто собираясь нырнуть. И Генка вздохнул за моей спиной. Медленно приблизил я губы к его рту, прижал и с силой выдохнул весь воздух, нажал локтями на грудь.
Гак! — вылетел вдутый мной воздух и рассыпался, как пыль.
Николай дрогнул, повёл рукой. Приоткрылись его глаза, хлипнуло в горле:
— Чтой-то?
Час прошёл или больше, как кончилась гроза?
У палатки горел уже костёр. Дым от него шёл влажный, утяжелённый, особенно горький. Он уплывал к полю, смешивался с ночным туманом.
Николай лежал в палатке, накрывшись мокрыми плащами. Он высунул к костру заляпанное землёй лицо, тяжко дышал, закашливался дымом.
Грошев снял брюки и размахивал ими над огнём.
Генка сидел у костра, обхвативши за шею овцу, которая бессмысленно пялилась в огонь.
— Я прямо не верил, что всё обойдётся, — весело сказал Генка.
Он восхищённо глядел на Николая, не мог отвести глаза, будто боялся, как бы снова чего не случилось.
— И папиросы-то намокли, — хрипло сказал Николай, ни к кому особенно не обращаясь.
— А мы их посушим! — обрадовался Генка.
Николай вяло махнул рукой — дескать, ладно, чего там.
Я снял куртку и стал помахивать ею над костром, сушить. Под взмахами загудели сучья, располыхались. Лопались и скрючивались в жару сосновые иголки.
— Сбоку молния ударила или как? — спросил я Николая.
— Прям под ноги.
— Тогда б ты не встал. Она тебя тряхнула только и об землю бросила, — возразил Грошев.
— Говорю я — под ноги, — повторил Николай.
— Ух, жара! — сказал Грошев, отскочил от костра, — Ташкент!
— Это ещё не Ташкент, — ответил Генка, протягивая к огню руки. — Сейчас-сейчас, разгорятся…
— Гепка-а-а! — послышалось недалеко. — Гена-а-а-а!
— Батя! — испуганно вскочил Генка. — Батя меня ищет!
Он дёрнул овцу за верёвку и побежал в темноту, сразу позабывши нас.
— Иду-у-у! — закричал он.