Про Бабаку Косточкину | Страница: 18
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
— Сейчас я вашу машину заведу в два счёта! — говорит Игорь и вдруг как дыхнёт на неё пламенем! Жарко стало, как зимой в Африке.
«Ну всё, — думаю, — конец пришёл нашей „калинке“! А я за рулём один разок только и посидел».
Но нет. Дым рассеялся, глядим — а наша машина стоит живая и невредимая, попыхивает выхлопной трубой, рвётся в дорогу, как лошадка. Только она не зелёная, как раньше, а приятного малинового оттенка.
— Батюшки! — мама всплеснула руками. — Прелесть какая! — и ну давай Игоря обнимать. Потом спохватилась, когда папа сказал «кхем-кхем».
— Спасибо, Игорь, не знаю, как вас по батюшке, — папа пожимает дождливому человеку руку. — Выручили вы нас, право слово. Приезжайте в гости в начале мая. Мы открываем дачный сезон — в баньке попаримся, шашлычков поедим!
— В баньку я не любитель, а вот грозу люблю в начале мая, — улыбается Игорь.
На этой дружественной ноте распрощались мы с дождливым человеком и садимся в машину.
И тут только заметили, что Бабаки-то нет!
Что такое? Где Бабака?
Папа забегал, я кричу в панике, маме стало дурно в машине. Даже Аделаида начала пинаться, а до этого сидела смирно в животе.
И тут она появляется. Хвост поджатый, глаза на мокром месте, а нос, наоборот, сухой — издалека заметно. Сама не своя Бабака.
— Ты чего, — спрашиваю, — сама не своя? Ты где была? Мы волновались вообще-то!
— Я, — говорит, — сидела за кустом бузины. Я, — говорит, — как увидела этого вашего Клаату, сильно испугалась. Я недолюбливаю пришельцев из параллельных миров. Побаиваюсь. Вы, — говорит, — не забывайте, что я не кошка, а собака. И вообще, надо предупреждать в следующий раз.
Сказала так Бабака и села за руль. И папа даже не возражал. С взвинченной женщиной связываться — себе дороже.
А Игорь зачастил к нам с тех пор. Особенно ему летом нравилось в Рассказихе. Встанет, бывало, под дождь и стоит — весь мокрый до нитки, радугой в небе любуется.
А потом мы все вместе пьём чай и смотрим «Человека дождя» с Дастином Хоффманом в главной роли. Это у Игоря любимый актёр.
А маме с Бабакой Том Круз больше нравится.
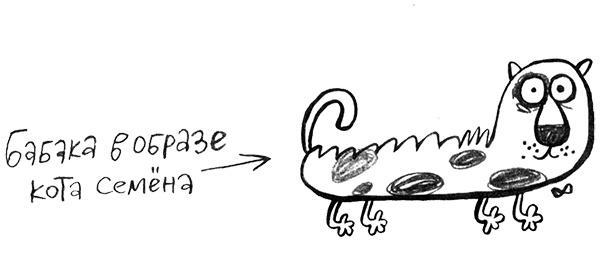
Глава 12
Как сельские жители

На весенних каникулах я еду в деревню к бабушке — так решили на семейном совете… Только семейный совет был какой-то неправильный. Меня на нём не было.
— Свежий воздух необходим тебе, как… воздух! — говорил папа. — Ты какой-то бледно-фиалковый. Сидишь с утра до вечера у компьютера. А в деревне тем временем снега в полях, вот-вот взойдут озимые. И ледоход на носу! С бабой Моней, вообще-то, знаешь, как весело?
— Почём мне знать? Я её в глаза никогда не видел.
Это я, конечно, утрирую [14] . Бабу Моню я видел один раз — она приезжала ко мне на день рождения из Калистратихи. Мне тогда исполнилось четыре года. Помню, ещё солёных рыжиков привезла в трехлитровой банке. Я умял эти рыжики за один вечер — они были такие кисленькие, с гвоздикой. Помню, мне потом было плохо — три дня лежал пластом с температурой. А вот лица бабы Мони почему-то не помню. Она с тех пор к нам больше не ездила. А на фотографии, которую папа носит в портмоне, она совсем молодая. У неё там брови сросшиеся и родинка на носу.
— Только, я надеюсь, Матрёна Игнатьевна не будет больше Костика травить? — говорит мама. — Ты, сынок, если бабушка будет давать какие-нибудь непонятные продукты, которых ты раньше не ел, ты их не бери. Скажи вежливо, что не голоден.
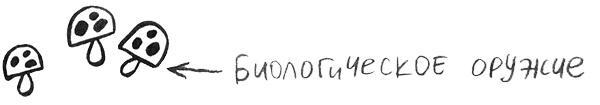
— Катя! — восклицает папа и делает выразительные глаза навыкате.
— И ни в какую баньку по-чёрному не ходи, а то ослепнешь! А если бабушка пошлёт с коромыслом за колодезной водицей, скажешь, что от физкультуры ты освобождён.
— А если она потребует справку?
— Соврёшь что-нибудь, — отрезает мама. — И в лес, слышишь, в лес за подснежниками не ходи! Они занесены в Красную книгу, так бабушке и передай.
— Катя! — снова восклицает папа и трагически вздымает над головой руки.
— Я тридцать три года уже Катя, а твоя мама, между прочим, их по десятке за штуку продаёт на колхозном рынке, я видела собственными глазами!
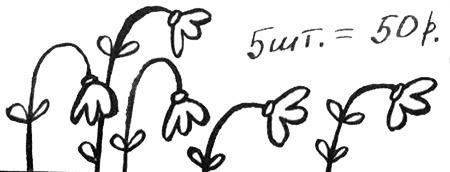
— Екатерина Алексеевна, да не волнуйтесь вы так! — говорит Бабака. — Я за ним прослежу. Он за мной будет как за каменной стеной. Нам вдвоём не страшны никакие бабушки.
— На тебя лишь и уповаю, Бабаконька! — говорит мама. — Ты уж меня не подведи.
До Калистратихи мы ехали весело, с огоньком. Всю дорогу в электричке какой-то одноглазый мужчина играл на баяне и пел «Как упоительны в России вечера» и ещё что-то про французские булки.
Я смотрел в окно и представлял себе эти булки. Они, наверное, большие, круглые, гораздо круглее русских, и наверняка хрустящие. Надкусишь такую, а внутри лимонное повидло, или сливовый джем, или ещё чего-нибудь типично французское. Лягушачьи лапки, например. Мы их ели однажды с мамой в кафе «Елисейские поля», которое на Краноармейском проспекте.
Я ещё тогда подумал, что это не лапки, а какие-то куриные грудки. Как в воду глядел — официант потом сознался, когда мы оплачивали счёт и нам денег не хватило. Вошёл человек в наше затруднительное положение!
Когда объявили нашу станцию, уже смеркалось. Мы вышли с Бабакой на заснеженную платформу и огляделись. Мела метель.
В кирпичной будке с заколоченным окном и надписью «АССА» со скрипом раскачивался на ветру ржавый фонарь. Нас никто не встречал, хотя должна была встречать баба Моня.
«Я буду в фиолетовом пальто. В руках у меня будут вожжи», — сказала баба Моня по телефону папе.
Я уже хотел было звонить домой, но сотовый отсюда не брал. Мне стало жутко. Особенно после того, как в неровном свете одинокого фонаря я разглядел в снегу отпечатки чьих-то раздвоенных копыт.
— Не дрейфь! — сказала мне Бабака, и я в очередной раз почувствовал к ней прилив нежности.
— У меня есть бабы-Монин адрес. — Бабака достала из кармана сложенную вчетверо бумажку. — Тупик Коммунизма, 4. Думаю, к полуночи доберёмся. Эх, нам бы лыжи!
Но к полуночи до тупика Коммунизма мы не добрались. В два часа ночи мы ещё плутали по просеке. В три утра мы набрели на медвежью берлогу. В четыре решили заночевать в снегу, но не на шутку разыгралась метель, и от этой мысли пришлось отказаться. В пять утра где-то прокукарекал петух, и мы пошли на его голос.