Адония | Страница: 1
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Пролог
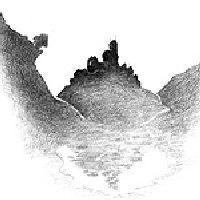
Невесомой звездой
Я лечу за тобой.
Мы расстались в небесных мирах.
В лучезарной дали
Далеко от Земли
Ты мечтал о земных городах.
То в багряном огне,
То на белом коне,
То в атласе карет, то в пыли,
То в шелках, то босой,
Я иду за тобой
По бескрайним дорогам Земли.
Мимо синих морей,
Золотых королей,
Мимо вечных рабов и господ,
Я иду сквозь века.
Я бессмертна, пока
В моём сердце надежда живёт.
Однажды в Лондоне, поздно вечером трое, сдвинув головы и придерживая нешироко раздвинутые портьеры, смотрели на дом, стоящий напротив — поодаль, за пустырём. Это был старый, облупившийся «доходный дом», и, поскольку люди в нём жили бедные, редко какое окно было снабжено занавесками. Во всех квартирках горели свечи: небогатый ремесленный люд ужинает, как правило, поздно.
Наблюдать, как живут и что делают бедняки — занятие скучное, но те трое, что раздвинули тяжёлые портьеры в тёмном окне, занимались именно этим. Впрочем, их интересовала только одна квартира и только один жилец — на втором этаже.
— Сколько их? — вполголоса поинтересовался один из наблюдающих, глядя на смутные маленькие силуэты.
— Четверо, — ответили ему полушёпотом. — Главный — монах, к которому прислали гонца из Америки. Второй — этот самый гонец. Он сейчас должен уйти. И двое в прихожей — беглые матросы. Много лет плававшие, много раз битые. Прячутся у монаха, кормятся у него и по его приказу любому пришедшему в дом свернут шею.
— Серьёзные люди.
— Да. Сам монах — в следующей комнате, вот он, видите? Всё его имущество, — и документы, и деньги, — в сундуке под кроватью. Значит, расплачиваться он будет именно там.
— Кто рассчитывал полёт портфунта [1] ?
— Я. Высоту их подоконника измерил ночью шестом. Высоту нашего — каболкой с привязанным грузом.
— Баллисту на этом расстоянии испытывал?
— За городом, дважды.
— А если всё-таки портфунт окажется тяжелей или легче и не влетит в наше окно, а ударит в стену?
— Я подберу, — подал теперь голос и третий. — Лошадь готова. Но всё же лучше, если деньги сразу попадут к вам, радж.
— Сам на это надеюсь. Но всё зависит от баллисты…
— Вот он! — перебил их второй собеседник. — Гонец! Вот, выходит!
— Не вижу, — сказал радж. — Ночь тёмная, глаза старые.
— Идёт вдоль дома. Да, в сторону трактира «Уютный угол», там у него каморка под крышей.
— Что-ж, хорошо. Бали, ступай прямо сейчас. Пусть матросы подумают, что это их гонец по какой-то причине вернулся. Лучше, если дверь откроют сразу, без лишних объяснений.
Бали отпрянул от окна, подхватил лежавший в углу тяжёлый мешок, вскинул его на плечо и, выскользнув за дверь и неслышно ступая, заспешил вниз по лестнице. Спустя несколько мгновений он уже мчался, пригнувшись, через пустырь по направлению к «доходному дому».
— Через четыре минуты я с лошадью буду внизу, у стены, — торопливо сказал второй и тоже поспешил вниз.
Оставшийся в одиночестве радж сдёрнул, порвав шнурок, и сбросил на пол портьеры, широко распахнул створки высокого окна — и тоже вышел.
Пригнувшись, ступая мягко, неслышно, он пересёк пустырь, приблизился к старому дому, перешагнул неглубокую вонючую канаву, в которую местные обитатели выливали нечистоты прямо из окон, встал вплотную к стене и здесь совершил несколько неожиданных, но вполне объяснимых действий. Он распахнул тёмный, доходящий до колен плащик, снял с плеча смотанную в бухту верёвку с часто навязанными на неё узлами, положил к ногам. (Едва слышно звякнула о камень привязанная к верёвке маленькая, с остро наточенными крючьями «кошка».) Затем, чуть присев, выхватил из скрытых в рукаве ножен длинный прямой нож, провернул его, словно фокусник, в пальцах и вернул обратно в ножны. Из второго рукава выхватил второй нож и проделал ещё раз то же самое. Достал из-за спины скрученную в тугой валик небольшую циновку, поставил её вертикально, прислонив к стене. И присел возле стены сам, — присел и замер, едва-едва различимый в свете окон второго этажа.
В ту же секунду в дверь на втором этаже постучали.
— Вернулся! — вскочил с ветхого, продавленного кресла приземистый широкоплечий матрос в рваном нижнем белье.
— Должно быть, забыл что-то, — в тон ему откликнулся и встал с кушетки второй, с волосатой грудью и обвисшим животиком.
— Я открою, — сказал крепыш и, клацнув запором, толкнул дверь.
Толкнул — и, непроизвольно икнув, отшатнулся. Вместо ожидаемого гонца быстро шагнул в комнатку очень молодой, худощавый, с чёрным лицом человек. Не издав ни звука, пришедший пробежал через комнатку к следующей двери, распахнул её и без приглашения ввалился внутрь. Перед глазами остолбеневших матросов мелькнул лишь серый объёмистый мешок.
Беловолосый, средних лет монах, в снятой с плеч, откинутой назад и свисающей с пояса сутане, с намыленным для бритья лицом, уронил на пол бритву и освободившейся рукой испуганно перекрестился.
— По делу, о котором вы хлопочете у бишопа! [2] — торопливо проговорил пришелец, и, схватив стоящий у стола стул, переставил его к стене и сел лицом к двери, к вбегающим и уже разъярённым матросам, выставив перед собой, словно щит, мешок.
Почти четверть минуты все молчали. Наконец монах, наклонившись, поднял бритву, машинально провёл щёчкой лезвия по ладони. Переспросил:
— У бишопа?
— У бишопа, — подтвердил чернолицый юнец.
— О монастыре?
— О монастыре.
— Вы ловко вошли в моё жилище, — после паузы снова сказал монах.
— А вы ловко вошли в клир [3] , — с одной стороны, похвалил, а с другой — продемонстрировал знание дела пришелец.
— Я для чего вас держу? — тихо, со зловещей ноткой в голосе проговорил монах, проткнув ледяным взглядом матросов.
— Да мы его сейчас… На куски… Гада…