Меня зовут Мина | Страница: 28
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
— Что?
— По-моему, ты слишком много времени проводишь на дереве.
— Слишком много?
— Да. Надо почаще спускаться вниз, в реальный мир. А сейчас слезай, мы пойдём гулять.
— Куда?
— Куда глаза глядят. Куда ноги поведут.
— Пошли!
Я спрыгиваю с дерева. Прикладываю палец к губам.
— Слушай, — велю я маме шёпотом.
— Что слушать?
— Просто слушай. Если хорошенько прислушаться, мы услышим, как пищат птенцы. И может, даже ребёнка услышим.
Мы навострили уши, повернули их к гнезду. Тянем вверх шеи.
— Слышишь птенцов? — спрашиваю я.
Мама качает головой.
— Я тоже не слышу, — признаюсь я.
Мы улыбаемся друг другу.
— Ладно, может, завтра повезёт, — говорю я. — А теперь ведите нас, ноги.
Прогулка, пицца, звёзды и пыль
Мы направляемся в парк. Мама говорит, что будет меня просвещать, что это не просто прогулка. Пустобрёхс и Непущаль потребовали с неё отчёт о том, какой материал мы за это время освоили. Она, разумеется, напишет им о моём сочинительстве, об исследовании птиц, о нашем художественном творчестве и так далее и тому подобное. И объяснит, что даже прогулка по парку может быть глубоко познавательной и воспитательной.
— Так что погуляем и побеседуем о теории прогулок Пауля Клее.
— Кто это?
— Один из величайших художников двадцатого века. Клее говорил, что линия состоит из точек, а художнику остаётся соединить их и вывести на прогулку.
Я задумалась и сразу представила, как двигается карандаш по бумаге… И сказала:
— Ага, если рисунок похож на прогулку, то и прогулка похожа на рисунок!
— Конечно. А раз так, значит, рисуя, мы бродим и путешествуем где пожелаем, исследуем что пожелаем.
Как чудесно! Я улыбаюсь. И представляю, как наши ноги, соединяя точку за точкой, оставляют на земле рисунок. Чтобы он получился поинтереснее, я усложняю траекторию и начинаю выделывать кренделя.
— Картины Клее напоминают детские рисунки, — говорит мама. — Некоторые люди такое искусство терпеть не могли. Нацисты, например. Постановили: картины сжечь!
Я слушаю её, но думаю о своём.
— Может, когда пишешь — это тоже прогулка? — говорю я. — Ты словно пускаешься в путешествие, и на самом деле необязательно знать, куда идёшь и что увидишь по пути. Дойдёшь — узнаешь.
Мама улыбается.
— Получается, что, когда пишешь, выводишь на прогулку слова, — говорит она.
— Так и есть.
Мы шагаем рядом, в ногу, и каждый шаг — как слово, и я на ходу их выдыхаю:
каждое — слово — шаг — на пути — не знаю — куда
— Пикассо любил творчество Клее, — говорит мама. — Он говорил, что художник тратит годы, чтобы стать мастером, но чтобы научиться рисовать, как ребёнок, надо потратить целую жизнь.
Как же странно: взрослые жаждут стать моложе, дети жаждут побыстрее вырасти, а время катит и катит вперёд, и на все людские желания ему начихать.
Я веду на прогулку слова:
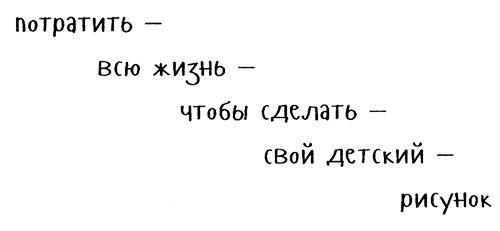
— Вордсворт сочинял только на ходу, — говорит мама.
— Правда?
— Да. Он утверждал, что ритм ходьбы помогает ему найти ритм для стихов.
— Так и есть!
— Ещё бы.
когда пишешь — выводишь — слова — на прогулку
и слова — совпадают — с ритмом — шагов
а шаги — совпадают — с ритмом — слов
когда пишешь — выводишь — слова — на прогулку
— Кроме того, прогулка — это своего рода медитация, — продолжает мама.
— Как это?
— Вот так. Хотя обычно люди медитируют, сидя совершенно неподвижно. Так легче сосредоточиться.
— Как я на дереве?
— Да. Но практикуется и медитация при ходьбе. Надо концентрировать внимание на самом движении, на каждом шаге. И больше ни о чём не думать. И ничего не делать — только шагать. В надежде обрести чистоту и покой.
Мы пробуем помедитировать. Шагаем бок о бок по дорожке в парке. Я уже не думаю о словах и линиях. Стараюсь думать только о шагах: правой — левой, правой — левой. Мы дышим медленно, глубоко.
— А теперь вообще ни о чём не думай, — говорит мама. — Просто переставляй ноги.
Но мы идём через парк, и я ничего не могу с собой поделать — я вдруг начинаю думать о подземном туннеле и, вместо того чтобы успокоиться, начинаю ужасно волноваться. И мама сразу чувствует, что со мной что-то не так. Она останавливается. Смотрит на меня. Ждёт. Я рассказываю ей про тот день. Как выбежала из школы, как спустилась в туннель совсем одна, как встретила там мужчину с собакой. Я объясняю маме, что затеяла всё это, чтобы вернуть папу на землю — как Орфей Эвридику. Я стараюсь рассказывать смешно и сама смеюсь.
— Я, наверно, была ужасно глупая, — добавляю я. — И совсем маленькая.
Я снова стараюсь засмеяться, но почти плачу.
Мама обнимает меня крепко-крепко.
— Что ж ты мне сразу не рассказала?
— Вот, говорю.
— И ты действительно видела собаку?
— Да. Мужчину с собакой. Я подумала, что это пёс Цербер. Который сторожит владения Аида. Я думала, что иду в царство мёртвых!
— Ох, Мина!
Мне удаётся выдавить из себя смешок.
— Мужчина — наверняка ремонтник, рабочий, — говорю я. — А пёс бездомный.
Мне даже удаётся подхихикнуть.
— Ведите меня, ноги, ведите! — велю я, и мы идём дальше.
Вокруг так светло, а я вспоминаю про такую темноту…
— Я надеялась, что буду идти-идти и дойду до Аида и Персефоны!
— Мина-Мина! Фантазёрка!
— Я уже слова заготовила, — говорю я.
— И что бы ты сказала Аиду и Персефоне?
Я — со смешком:
— Отдайте его! Отдайте его!
Мама качает головой и бормочет:
— Отдайте его?..
Мы идём дальше. На некоторое время притихаем. Слушаем птиц и звуки города.
Мама спрашивает, полегчало ли мне теперь, когда я всё рассказала.
— Да.
Я хочу подольше помолчать, но болтаю дальше — о Софи, о том, что она приходила меня навестить.
— Как это мило с её стороны! — говорит мама. — Может, она ещё зайдёт?