Ворон. Волки Одина | Страница: 55
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
– Ты получишь свое серебро, Сигурд, – сказал он.
– Не будет серебра – сдеру с тебя шкуру и прибью ее к мачте, – пообещал ярл.
Потом повернулся и пошел к мертвому другу, чья кровь пропитала арену смерти.
Глава 18
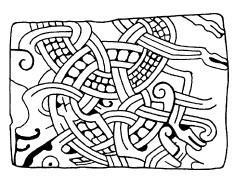
Мы победили, но радости не было. Тело Брама принесли на причал, возложили на лучшую медвежью шкуру, стерли запекшуюся кровь с головы, бороды и лица. Труп закоченел, и теперь даже Свейн не смог бы разжать руку, все еще сжимавшую меч.
Я был почти без сознания, когда мы подошли к реке, но у меня хватило сил удивиться, что Асгот вместе с Улафом принялся за мои раны. Я лежал на куче меховых шкур прямо на пристани, рядом со «Змеем», и смотрел в темно-синее небо, где носились и кричали чайки. Бьярни сказал, что я разве что чуть румянее Брама – так много крови вытекло из раны между ребер. Но когда я, с трудом разлепив запекшиеся в крови губы, предположил, что моя обреченность никуда не делась, Бьярни разразился хохотом.
– Подумаешь, царапина. – Он кивнул на рану, которую Улаф промывал горячей водой. – Похоже, даже богам не под силу тебя убить, Ворон.
– Может, они его и пощадили, – бросил Асгот.
Бьярни задумался, потом улыбнулся.
– Плюнуть кровью в глаза – хитрость, достойная Локи, – похвалил он.
Я не мог ему ответить с ножнами в зубах – Асгот готовился прижечь мой разодранный бок каленым железом, чтобы я не потерял еще больше крови. Когда раскаленный прут с шипением коснулся раны, я пожалел, что не умер. Я даже не потерял сознание от боли – наверное, из-за трав, которые годи сунул мне в рот еще на арене. Или Всеотец таким образом наказывал меня за то, что я сопротивляюсь собственной судьбе, ведь к этому моменту я должен был стать просто еще одним воином, истекшим кровью на потеху римлянам. Я выплюнул ножны и заорал; железный прут шипел, от запаха паленой плоти слезились глаза. Я едва слышал, как Улаф уговаривал меня кричать так, чтобы давно сгнившие мертвецы восстали из своих могил на римском кладбище, в промежутках пытаясь влить в меня неразбавленного вина.
– Зато остальные царапины и синяки чувствовать не будешь, – заверил меня подошедший Пенда. – Боже мой, Ворон, да я со счету сбился, сколько ударов ты принял. Хорошо хоть в основном древком копья…
– Ублюдок забавлялся, – процедил я сквозь зубы. – Убивал медленно.
Брови Улафа взметнулись.
– Да уж, больше он этого не сделает.
Асгот наложил какую-то вонючую примочку на почерневшую рану, а Улаф крепко ее завязал. Вино обожгло губу, но мне все равно хотелось себя в нем утопить – я до побеления костяшек сжимал кубок, который снова и снова наполнял Пенда. Уэссексец с радостью отметил, что из раны больше не течет, а значит, живот не проткнут.
– Не пропадать же хорошему вину, – сказал он и до краев наполнил свой кубок.
Остальные сооружали погребальный костер. Нужно было много дров, а вдоль берега росли только кусты. В самом городе тоже деревьев почти не было. Сигурд предложил нищим с виду фризам столько серебра за их ялик, что они не смогли отказаться. Ялик стоял у деревянного причала и был больше четырехвесельного яла, но меньше наших снеккаров. Он явно видал лучшие дни и теперь годился лишь для того, чтобы реку переплыть да скакать с острова на остров. Но Сигурду он понадобился вовсе не для этого, и теперь Свейн, Кнут, Браги и Гуннар работали топорами, а остальные сооружали из досок костер.
– Разожжем костер сегодня, пусть пламя поет о нашем брате-герое в ночи, – сказал Сигурд, поднимая шкуру, под которой я лежал, и оценивающе глядя на работу Улафа. – Мы победили, Ворон.
Слова эти были так же пусты, как кубок, который все еще сжимали мои пальцы.
– С трудом, – ответил я, стараясь скрыть гримасу боли.
Радости от победы не было, Брам лежал теперь холодный и закоченевший.
– Сражался ты хорошо. Правда, все равно еще неуклюж, как безбородый юнец с первой в жизни потаскухой. – Он грустно улыбнулся. – Хотя копьем орудуешь уже неплохо. Венд был опытным воином.
– И безобразным, как недельное дерьмо, – ответил я.
Вспомнив про кожаный мешочек, который Кинетрит повесила мне на шею перед боем, я осторожно нащупал его под шкурами и сам удивился, насколько мне стало легче оттого, что он на месте.
– Скажете Кинетрит, что я хочу с ней поговорить? – попросил я.
Вино наконец немного уняло боль, в голове туманилось. Сигурд посмотрел на меня с сомнением.
– Бывают такие сражения, из которых не выйдешь победителем. Ты понимаешь? Ни военное мастерство, ни хитрость Локи не помогут с женщинами.
– Просто поговорить, – сказал я, но мои слова, казалось, задели его не больше, чем капля воды – промасленную шкуру.
– Отдыхай, Ворон, – сказал он, поднимаясь. – Поговори с ней и отдыхай. Я разбужу тебя, когда мы зажжем костер.
Я кивнул и поудобнее положил голову на свернутые шкуры. Рольф с датчанами приходили узнать, как я, но Сигурд их спровадил.
Едва я пошевелил правой рукой, как меня накрыла волна нестерпимой боли. Пришлось действовать левой. Я порвал шнурок из конского волоса, распустил завязку зубами и высыпал содержимое себе на грудь. И тут все мое существо сотряслось, как если б на землю вдруг упало Мировое древо – Иггдрасиль. На моей замотанной льняными лоскутами груди лежал блестящий, как ракушка, медвежий коготь. Я схватил его, надеясь, что никто не видел, и дрожа от холодного, как воды фьордов, предчувствия.
– Я же просила тебя, Ворон, не смотреть, что там. – Голос Кинетрит выхватил меня из пучины, в которую я погрузился.
Я не слышал, как она подошла, но по ее лицу понял, что Кинетрит давно здесь. Она стояла на краю пристани в лучах закатного солнца, которое золотило пряди ее волос, развеваемых легким бризом. За нею сверкали позолоченные закатом корабли.
– Лучше б ты никогда не узнал…
– Что ты сделала, Кинетрит? – Я почти чувствовал запах волшбы в воздухе.
– Ты был обречен, – укоризненно ответила она. – Я переложила твою обреченность на Брама. Иначе ты был бы сейчас мертв. – Она смотрела, как на берегу разрубают последние куски старой ладьи, и молчала, будто бы забывшись в мерном стуке топоров.
Там, где заканчивались рукава ее рубашки, я увидел врезанные в кожу руны – темные линии запекшейся крови и угля.
Я закрыл глаза, надеясь, что все это – лишь дурман от вина и Асготовых целебных трав. Потом открыл глаза, однако Кинетрит не исчезла.
– Значит, ты теперь вёльва? [45] – спросил я тоже укоризненно, потому что еще совсем недавно Кинетрит была христианкой.