Пражское кладбище | Страница: 7
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Злоупотребление пивом лишает немцев способности хотя бы в малейшей мере почувствовать свою вульгарность. Наивысшее выражение их вульгарности — что они не стесняются собственной немецкости. Хвалятся чревоугодником Лютером, безнравственным монахом (он призывал жениться на монахинях?), и радуются, что он испаскудил Священное Писание, переведя его на немецкий язык. Кто-то сказал о них, только кто это был — не помню, что немцы дурят себя двумя главными европейскими наркотиками — алкоголем и христианством.
Тщеславятся своей глубиной. А вся-то глубина-то, что язык их мутен, не имеет ясности, как французский, и не выражает того, что полагалось бы сказать. И поэтому ни один германец сам не знает, что он хотел сказать и что сказал. Эта вязкость, по их мнению, — глубина. С немцами, как с женщинами, нельзя дойти до дна. К сожалению, их маловыразительный язык, в котором глаголы, пока читаешь, нервно выискиваешь глазами, потому что они никогда не бывают там, где им следовало бы быть, мне пришлось выучить по требованию деда в раннем отрочестве. Нечему удивляться. Дед все, что мог, обезьянничал с австрийцев. До чего я ненавидел этот паскудный язык, а с ним и иезуита, приходившего учить меня, немилосердно наказывая указкой по пальцам.
После того как Гобино написал о неравенстве человеческих рас, принято считать, что ругают инородцев те, кто провозглашает превосходство собственного племени. Мне такие предрассудки не сродни. С тех пор как я окончательно стал французом (наполовину быв им от рождения, по матери), я осознал, до чего мои новые соотечественники ленивы, кляузны, злопамятны, завистливы, самонадеянны до убежденности, будто всякий, кто не француз, — дикарь, и не способны выносить замечания. Но я и понял, каким образом охмурить француза, чтоб он признал недостатки французской нации. Достаточно при нем сказать, к примеру: «поляки знамениты таким-то безобразием», и, поскольку француз никогда не поступится первенством, он моментально возразит: «ну нет, у нас во Франции много хуже». А дальше как уж понесет своих родных французов, покуда не опамятуется и не скумекает, что это его таким манером одурачили.
Француз не поможет ближнему, даже когда ему это выгодно. Кто неучтивей французского трактирщика! Он с виду ненавидит посетителей (и на деле тоже) и желает, чтоб они провалились сквозь землю (на деле не вполне так, ибо француз еще и ужасно меркантилен). Ils grognent toujours. Они брюзжат. Попробуйте спросить о чем-то — выпучат губы: sais pas, moi, препохабно, будто газы выпустят.
Французы злы. Они убивают шутя. Они единственные, кто несколько лет подряд для потехи рубили головы друг другу. Счастье французов, что Наполеон поворотил их злобу на иноплеменников и всех погнал уничтожать Европу.
Они кичатся государством и хвалят его мощь, но сами заняты сотрясением устоев государства. Никто не перещеголяет французов в искусстве строительства баррикад по поводу и без повода, сплошь и рядом не зная зачем. Они выходят на улицы по призыву какой ни попадя наихудшей канальи. Француз не очень понимает, чего ему надо. Он знает только одно: то, что есть в наличии, не по нем. Чтоб выразить протест, француз поет.
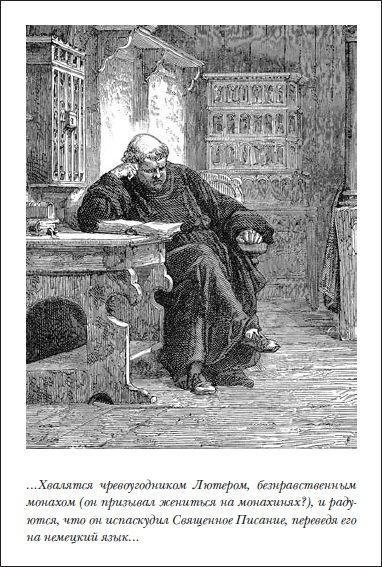
Французы думают, что все на свете разговаривают по-французски. С десяток лет назад произошла история с одним таким Люка. Большого таланта был человек, три тысячи документов подделать сумел, и все на настоящей старой бумаге. Пройдоха выстригал чистые форзацы томов в Национальной библиотеке. Он навострился воспроизводить почерки, хотя и хуже, чем умею это делать я. И продал таких бумаг огромное количество за невообразимые цены этому недоумку Шалю… Серьезный математик, говорят, и член Академии наук, но, как мы видим, совершеннейший тютя. Не только Шаль, но и другие высокоученые академики приняли за чистую монету письма знаменитых личностей, Калигулы, Клеопатры и Цезаря, написанные по-французски! Равно как и переписку на французском языке между Паскалем, Ньютоном и Галилеем! А между тем даже школьникам известно, что в старину образованные люди переписывались на латыни. Ученые мужи, академические старцы не ведают, что у других народов в заводе были и иные языки, помимо их ненаглядного французского! Но из поддельных писем Паскаля вытекало, будто он открыл всемирное тяготение за двадцать лет до Ньютона: ну, и этого с походом хватило, чтобы обмишулить сорбоннцев, отуманенных патриотической спесью.
Возможно, невежество развивается в них от скупости. Скупость — национальная чума, которую они зовут добродетелью и уточняют: «не скупость, а бережливость». Только во Франции могли посвятить целую комедию скупому. И не будем забывать также о папаше Гранде.
Скаредностью дышат их пыльные квартиры, где никогда не меняют обои, а тазики наследуются от прабабок. Корыстность и мелочность французов видна и по их деревянным закрученным лестницам с непрочными ступенями — во что бы то ни стало экономится пространство. Ежели привьют, как, случается, прививают черенок к дереву, к французам еврея (предположим, немецкого еврея), то получится именно то, что мы сейчас имеем в наличии. Получится Третья республика.
Я, конечно, сам стал французом. Но стал я им только из-за того, что итальянцем оставаться было нестерпимо. Пьемонтец по рождению, я явственно чувствовал, что я — карикатура на галла, но еще ограниченней, чем галлы. Пьемонтцы! От всякой новости пьемонтцы столбенеют. От неожиданностей цепенеют. Чтоб затащить их в Сицилийское королевство (тех немногих пьемонтцев, которые были в гарибальдийском войске), понадобились двое лигурийцев: энтузиаст Гарибальди и зануда Мадзини.
А уж то, что я выяснил в тот раз, когда меня послали в Палермо! Когда это было? Восстановить бы…
Только фанфарон Дюма любил италийские народы. Наверное, потому, что они превозносили его. Не то что французы. Французы прежде всего видели в нем мулата, а уж во вторую очередь — писателя. Нравился же Дюма неаполитанцам и сицилийцам, которые сами помеси, и не по оплошности гулящих родительниц, а по своей истории. Все они выродки от неверных оттоманцев, от немытых арабов и от вырожденцев-остроготов, унаследовавшие самое худшее от разношерстных прародителей: от сарацин нерадивость, от свевов свирепость, от греков безалаберность и крючкотворство. Впрочем, достаточно разок взглянуть на неаполитанских босяков, как они прилюдно напихиваются макаронами, вталкивая их грязными пальцами в хайло и обмазываясь прокисшим помидорным соусом. Я сам, по-моему, этого не видел, но мне рассказывали.
Итальянцы коварны, лживы, подлы, они предатели, предпочитают кинжалы честным дуэлям, предпочитают яды лекарствам, ускользчивы в переговорах и верны только одному принципу — принципу двурушничества, чему пример — бурбонские военачальники и как они повели себя при первом же появлении босяков из войска Гарибальди под командой пьемонтских генералов.
Все оттого, что итальянские военные сделаны из того же теста, что итальянские священники, — а именно священники, только они одни, и управляли Италией с тех пор, как этого дегенерата, последнего римского императора, оприходовали (сам подставил задницу) лихие варвары за то, что он дозволил христианству подорвать боевитость гордой нации.