Француженки не любят сказки | Страница: 27
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
– Думаю, что так. Я никогда не видела, что творится на французских скотобойнях. Впрочем, какая тебе разница?
– Ничего не понимаю, – медленно проговорила Джейми. – Ведь он один из лучших парижских шоколатье-кондитеров.
– Его история просто фантастическая. Отец заставил его работать на скотобойне, когда мальчишке было всего двенадцать. Доминик работал там до восемнадцати лет, а потом сумел поступить учеником на кухню хорошего парижского шефа. После этого он занял одно из лучших мест в Париже на конкурсе кондитерских изделий. Потом открыл собственную шоколадную лабораторию, которая моментально выдвинулась в число лучших и снабжала престижные отели. И все это за несколько лет. Поначалу его шоколад можно было заказывать лишь в отелях, и там не было его имени, только немногие знали, кто настоящий изготовитель. Это была одна из причин, почему я думала, что он согласится на сотрудничество с нами. Но нет, он был выше этого. – Кэйд досадливо поморщилась. – В прошлом году он победил в конкурсе – ну, знаешь, эти безумные конкурсы, что тут устраивают… Они настолько тяжелые, что победить на них практически невозможно. Он воспользовался этой победой, чтобы сделать свой салон таким, каков он теперь. Теперь все без ума от него. Впрочем, на мой взгляд, некоторые его изделия действительно бесподобны по вкусу и сложности приготовления.
Джейми сидела ни жива ни мертва. Ведь она знала с самого первого дня, что не заслуживала его внимания, она, богатая и избалованная. Ведь она не смогла снова сесть на свою лошадь после первого же неудачного падения…
Ника Самофракийская исчезла из ее поля зрения; прекрасный, древний, непобедимый мрамор разбился на куски, рассыпался в прах. Ей бы заплакать, но не было слез. Нет, она не заплачет. Воспоминаний об этой прекрасной ночи ей хватит надолго, очень надолго.
Но ей очень, очень хотелось заплакать.
– Что с тобой? – внезапно спросила Кэйд. – У тебя болит рука?
Черт побери, она терпеть не могла, когда ее расспрашивали о болячках.
– Нет. – Джейми покачала головой и уставилась на отслоившуюся кору на соседнем платане. – У меня все в порядке.
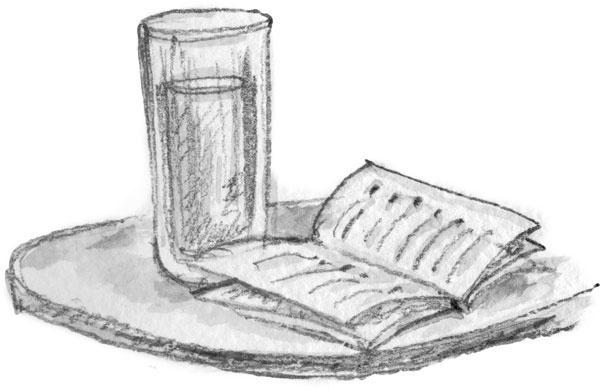
Глава 11

Он любил ее так сильно, что и сам не ожидал от себя такой прыти. Ему было чертовски приятно. Она обвилась вокруг него и просила еще и еще. В его памяти до сих пор звучал ее голос: «Да, да, да, пожалуйста!» – тогда он резко вошел в нее в последний раз, и она впилась зубами в мякоть его предплечья – первое, что ей подвернулось. И вот теперь он пробовал свой новый ганаш и не ощущал его вкуса, потому что помнил лишь ее вкус.
Он занимался с ней любовью много часов. Он готов был вернуться к ней, выбросив в ванной презерватив, готов был уснуть возле нее, усталый до изнеможения. Он бы прижался к ней, обнял, поцеловал в худенькое плечико просто потому… потому что хотел ее приласкать. А потом бы, неожиданно для себя, постепенно дал волю губам и рукам и снова любил бы ее. Он не мог забыть, как она прижимала его к себе, несмотря на усталость, как гладила его, засыпая, как вся открылась ему, поглощала его. У него было много женщин, которые никак не могли насытиться сексом с ним, но тут ему показалось, что она не могла насытиться им самим.
Впрочем, может быть, он просто-напросто заблуждался?
Уходя от нее еще затемно, до рассвета, на работу, он перецеловал все пальчики, сжимавшие подушку.
– Жем, – нежно шептал он этим пальчикам, и это слово отдавалось дрожью в его теле. Он с надеждой вглядывался в темноте в ее лицо, но она не проснулась, и он наконец с трудом заставил себя встать и уйти.
В темной лаборатории его ждал большой блок шоколада. Он взглянул на него, когда зажглись светильники, мягко отражаясь от мрамора, а окна снова потемнели. Внезапно, полный надежды и страха, он понял, что́ попробует сделать из этого шоколада. Быстро переоделся, встал к столу и взялся за работу.
Поначалу он верил, что у него получится та самая задуманная скульптура. Но когда Жем не пришла утром, его сердце упало, ушло даже не в пятки, а куда-то еще, в грязь. Она не появлялась. Ни в 10.01, ни в 10.02, ни в 10.03. Ни в 11.14, ни в 11.15, ни в 11.16. Ни в 2.03, ни в 2.04, ни в 3.19, ни в 3.20. Вообще не пришла. Минуты таяли за минутами.
Дьявольщина, на нее не похоже, нет. Ведь она не… получила того, что хотела. Всего, что хотела. Не получила. Ведь она любила получать лакомство не спеша, долго.
– Что, она вдохновила тебя? Как ее звать-то? – спросила бесцеремонная Селия, крепко двинув шефа и одного из лучших шоколатье Парижа локтем под ребра, когда он оторвался от скульптуры, чтобы помочь подчиненным. Потому что скульптура снова стала его пугать.
Он помедлил в нерешительности, потом – ой-ой-ой! – робко улыбнулся.
– Жем.
Он не мог произнести ее имя так, как говорила Джейми. Когда он произносил его, всякий раз оно звучало нежно, шелковисто и повисало в воздухе, словно робкая надежда, которой не суждено сбыться. «J’aime, я люблю» – что? Твои волосы, улыбку, веснушки, то, как ты смотришь на меня, твою нежную кожу, которую я глажу своими ладонями?
И тут исключался вариант «Я люблю тебя», потому что это звучало бы иначе, «Je t’aime».
– Быть такого не может! – недоверчиво воскликнула Селия. – Она выдумала это имя! Жем?
Он тоже засомневался и почувствовал неприятный холодок внутри. Неужели выдумала?
– Если это ее настоящее имя, то оно ужасно ми-и-и-и-лое! – пропела Селия и, танцуя, двинулась с кастрюлей ганаша в комнату-холодильник. – Самое забавное, что это случилось с тобой! Ты тоже стал такой ми-и-и-лый! Мне нравится. Ты увидишься с ней еще?
– Селия, займись своими делами и не суй сопливый нос в мою личную жизнь! – прорычал он. 3.27. Он был готов сорвать со стены часы и швырнуть их на улицу. Она так и не пришла.
После работы он пошел прямиком в тренажерный зал. Там сначала поднимал до изнеможения тяжелую штангу, потом боксировал, уничтожая противников, наказывая их за то, что после тренировки он пойдет прямиком к двери ее квартиры и еще не знает, откроется ли она перед ним.
Он как раз возвращался в зал тяжелой атлетики, когда увидел ее. Самым пугающим было то, что его сердце не перестало биться, а работало нормально. Хотя он только что безжалостно терзал его всеми этими нагрузками и боксом.
Потная и разгоряченная, она лежала на низкой скамейке и с искаженным от напряжения лицом выжимала вес. На ней была голубая трикотажная безрукавка, а на руках отдельные рукава, так что голыми были только плечи. И это было странно, потому что ей явно было жарко. От усилий она закрыла глаза, поэтому не увидела его сразу.