Знак Каина | Страница: 4
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Я же, отойдя от обиды на Алексееву неблагодарность, много над Малютой смеялся: кто-де лучше человечью породу знает? За науку отписываю с тебя половину твоих деревенек. А он мне: «Ты, может, и умней, да и я не внакладе. Теперь, без Басмановых, я близ тебя первый буду». Вот он какой, Малюта – дерзкий.
Беспременно надо, чтобы рядом был раб прехрабрый, кто служит не за страх. Однако нельзя и забывать, что такой слуга подобен прирученному медведю. Однажды может встать на дыбы и ощерить пасть.
Я кошусь на Малюту, а ему нипочем – ухмыляется.
– Что глазами жжешь, Иван Васильевич? Или зарезать меня хочешь, как Федорца зарезал?
Подъезжает вплотную, подставляет открытое горло:
– На, режь. Не жалко.
Натягиваю поводья. Останавливает своего коня и Лукьяныч.
Мне любопытно:
– Ты что же, вовсе не боишься смерти?
– А чего мне ее бояться? – Он беззаботно дергает широченным плечом. – Иль ты мало смертей повидал? Пока терзаешь человека, он орет, корчится. А как испустит дух – успокаивается, делается благ и тих. Знать, ему там лучше, чем здесь.
– И муки не боишься? – спрашиваю я. – Вот если тебя медленным огнем жечь?
Малюта достает из поясного кошеля кресало, разжигает трут. Прикладывает тлеющий конец к своей ладони. Остро пахнет жженым мясом, а Малюта знай улыбается и глядит мне в глаза.
– Брось! Вонько!
Вырываю трут.
Я всегда это знал: я один из всех человеков чувствую боль по-настоящему. Такое мне испытание от Господа. Прочие на пытке и визжат, и бабьим голосом орут, а все притворство. Им бы, как мне, один денек головной болезнью помаяться…
Вот Малюта жжет себя – и не прикидывается, что больно. Тем и ценен, что честен. Пусть поживет пока.
– Обмотай тряпицей, а после покажись немцу Елисею, – говорю я заботливо. – Не то рука загниет, а она мне нужна. Ладно, едем.
Вот они уже – врата моей мирной обители, спасительного моего Острова. Сами распахиваются навстречу.

О тихом острове меж бурных вод
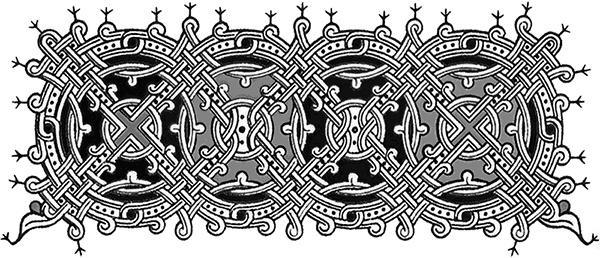
И за ними открывается широкий двор, залитый багряно-желтым от многая огней сиянием.
Таким же ослепительным озарением явилась ко мне некогда мысль: ради спасения бессмертной души и бренной плоти укрыться от людской злобы и вражьих происков, от московских сонмищ и греховной суеты в некоем тихом месте. А перед тем, ночью, было мне сонное видение.
Будто я – утлый челн средь бурных вод, уязвительный от острых скал, от морских чудищ, от неистовых бурь, и погибель моя неизбежна, но на краю моря-океана разливается утешительный свет, и править надо туда, ибо там Остров, где я обрету успокоение.
Все утро я ломал голову над загадочным сном, а потом вдруг разверзлись очи, и я понял!
Успокоение – там, где покойно. А покойно мне было только в раннем детстве, когда бывал с матушкой вдали от темных и тесных кремлевских переходов, на приволье Александровской слободы. Там еще батюшкой поставлен легкий и веселый летний дворец, а близ него три чудесных храма, где так умилительно возносилась детская невинная душа во время служб и молебствий. Там, там, в Слободе обрету я утраченный рай!
Вот как обустроился мой тихий остров меж бурных вод – то последнее виталище, о коем тосковал пророк Иеремия: «Кто даст мне в пустыне виталище последнее, и оставлю люди моя, и отъиду от них, понеже все любодействуют, соборище преступников».
В нетерпении велел я поскорей окружить Слободу стенами. Триста мужиков работали день и ночь. Ради скорости клали не сплошной камень, а ставили деревянные срубы, засыпали землей, а камнем обложили только снаружи, в один слой. Со стороны поглядеть – грозно, а что внутри прах, о том никто не ведает. Мужиков всех потопили в прудах, чтоб не болтали, и за то окаянство молил я у Господа прощения три слезные ночи, а на четвертую был прощен, ибо не зверства для, не глупой прихотью сгубил триста душ, а ради государственной пользы. Пусть враги страшатся моей твердыни. Все равно истинная ее крепость не в стенах, а в Божием благословении.
Моя слобода поставлена по завету Иезекиилеву, в подобие Граду Господню. Как и там, у меня трое ворот. Северные, мощью подобные Сцилле и Харибде, – для чужих людей: земских бояр и иноземных послов. Южные – повседневные, для своих, опричных и слуг. Восточные всегда заперты, они – для Господня Пришествия, ибо сказано: «Сия врата заключенна будут не отверзнутся, и никто же пройдет ими, яко Господь Бог Израилев внидет ими». А на закате ворот нет вовсе, ибо в великий невечерний день, когда приидет Господь, солнце не угаснет, и заката не будет.
Здесь, на милом моем Острове, я и спасаюсь уже шестой год. Мирно мне здесь, спокойно, лепо.
Москва, премерзкий Вавилон, цветом сера. Даже Кремль, прежде белокаменный, давно стускнел. А мой Остров бел и черен. Над белым поясом стен высятся беленые стены теремов и церквей, а крыши крыты черной черепицей. В том двоецветии великий смысл: тако и на земле обитают белое Добро и черное Зло, но оба они ничтожны перед Божьей волей, высоко над всем вознесенной – как вознесены над Слободой летучие золотые купола с крестами.
Однако в ночное время мой Остров не бел и не черен, а огнен. Я медленно еду между костров и факелов, крестясь во тьму на три стороны, трем церквам: Покровской, Троицкой и Распятской. Блестит железными колпаками стража, сверкают острые бердыши, тлеют зажженные фитили. Пятьсот опричных молодцев каждую ночь стерегут мой сон. Только где он, тот сон? Прошлой ночью не смежил вежд, не буду спать и нынче. Там, на холме, под ветром, бездомно и бескрышно несколько часов поспал, и то счастье.
Еду мимо Пытошного приказа, где на колах еще дергаются и мычат давешние псковитяне, что взяты по литовскому изменному делу. А в подвешенных клетях с прошлой недели гниют мертвые Лобановы: сам вор Мишка, его жена, дети, слуги и холопы, все их гадючье племя.
Вдыхаю особенный запах Слободы, какого нигде больше нет.
От церквей тянет свечным воском и ладаном.
От костров – дымом и смолой.
От Пытошного приказа – трупным смрадом.
Град мой цветом черен и бел, с златой искрой поверху, воздухи же здесь троевонны: сладкое благокурение для чистой души, чадный огнь ради Страха Господня, мерзкий тлен для бренного тела. Помни, грешный человек, что из праха ты сотворен и в прах обратишься. Трепещи Геенны пламенной. Но не теряй и надежды на спасение, на иную блаженную жизнь – вот тебе ее ароматное дыхание.
Кто умеет понимать – понимает. Но таких мало.
Вот Антоний Женкин, посол Лизаветы Английской, в перехваченной тайной грамотке отписывал своей королеве, пошлой девице, что-де, быв в «резиденце» у «кинга Джона», сиречь у меня, в Александрове, едва не стошнился, так-де там мертвечиной провонено, и Слободой моею брезговал, а про меня, собака, написал, что я-де подобен Ваалу, питающемуся человечиной. И впал я, те враки прочтя, в гневное неистовство, и забился судорогой, и повелел английский двор разметать, слуг побить, а самого Женкина повесить на воротах вверх ногами, над навозной кучею, чтобы, издыхая долгой смертью, понюхал истинно смрадного. Но Малюта держал меня за плечи и говорил, что ссориться с Лизаветой нам нельзя, а можно придумать лучше. И придумал. Хорошо придумал.