См. статью "Любовь" | Страница: 138
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Одаренный болезненной способностью одновременно видеть процессы роста и увядания в каждом живом организме, он всю свою жизнь был принужден наблюдать, как же мучаются вокруг него его друзья, мастера искусств, какие огромные и абсолютно напрасные усилия они прикладывают, чтобы скрывать, делать как можно менее заметными свои уродства, в возникновении которых абсолютно не виноваты. Та или иная ущербность или особенность тела заставляли их жестоко страдать, постоянно быть несчастными, высасывали из них все соки, отравляли существование, и вся их жизнь превращалась в хитрое противоборство, вымощенное сложными уловками, которые имели своей целью как-нибудь приспособить человека к прилепившемуся к нему дефекту, к его отвратительному изуродованному члену. Он научился понимать, что зачастую, когда человек произносит «моя судьба», «моя планида», он на самом деле имеет в виду один из тех сгустков «дикого мяса», который обречен до смертного часа волочить на себе. Кстати, это господин Маркус, аптекарь, был тем, кто высказал занятное предположение, что после тысячелетий существования на земле человек остается единственным животным, так и не приспособившимся полностью к своему телу, и что достаточно часто люди мучительно стыдятся своего тела.
— Иногда, — отметил прозорливый провизор, — иногда мне представляется, что человек все еще наивно ожидает следующей стадии эволюции, когда эти двое — человек и его тело — расстанутся наконец: расколются пополам и станут двумя отдельными самостоятельными существами.
Вассерман полагает, что телесные муки и изъяны (а он был наделен таковыми в изобилии) суть не что иное, как те вожжи, которые Господь держит в своей длани и с помощью которых управляет смертными; он никогда не ослабляет натяжения, но, напротив, постоянно понемногу укорачивает поводок, чтобы земные создания не забывались. Нужно отметить, что Найгель почти не разбирался в этих проблемах связи человека с собственным телом: чтобы вступить в СС, кандидат обязан был быть абсолютно здоровым и физически полноценным, не иметь ни малейшего изъяна и порока, не допускалась даже такая мелочь, как запломбированный зуб. При этом рана, которую он получил под Верденом, считалась едва ли не почетной метой, доказательством мужества и стойкости, знаком отличия, а не ущербностью. Найгель объявил с нескрываемой гордостью, что обладает отменным здоровьем и атлетическим сложением и никогда не приходили ему в голову «такие извращенные мысли касательно собственной персоны».
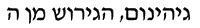
— ад, изгнание из ада
По утверждению Вассермана, это одно из тех преступлений, которых он никогда не простит немцам.
— Господь изгнал нас из райского сада, а вы изгнали человека даже из ада.
Найгель:
— Потрудись объяснить.
Вассерман (мне): Удивительное обыкновение у него, у Исава, произносить это. В одно мгновение лицо его омрачается, брови съезжаются к переносице, прямо-таки наскакивают друг на друга, будто два горных козла, готовые стукнуться лбами, или когда эдакий бравый солдат щелкает сапогами и выкрикивает «Хайль!». (Найгелю): Ну что?.. Последнюю иллюзию вы отняли у нас… Наивную нашу иллюзию касательно ада… Ведь и для него нужна иллюзия. Капелька неизвестности и таинственности… Только так и возможно ей, бедняжке надежде, хоть как-то теплиться, цепляться за какие-то там утешительные обманы, думать, что, может, не так уж страшен черт, как его малюют, не так ужасна преисподняя… Всегда мы представляли себе ад, в грешной душе своей, эдакой, знаешь, кипящей лавой, асфальтом, шипящим и пузырящимся в котлах, но пришли, прошу прощения, вы и показали, до чего же скудно было наше воображение и убоги картины…
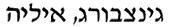
— Гинцбург, Элия, городской сумасшедший в Варшаве. Отродясь не занимался какой-либо полезной или, по крайней мере, систематической деятельностью и вообще в жизни никогда не ударил пальцем о палец. Родился в семье богатого лесоторговца, которая достаточно рано полностью отреклась от него. Всегда отличался необычайной худобой, затылок его был остр, как карандаш, и локти постоянно торчали где-то за спиной, позади тела. Общий вид был крайне отталкивающий: никогда не мылся, клочья всякой мерзости и пакости свисали с драной одежды, в уголках глаз и в ноздрях собирались слизь, грязь и гной. В дополнение ко всему страдал странной кожной болезнью: все его тело было покрыто отвратительной сыпью. Единственной внушительной и облагораживающей чертой его перекошенного, почерневшего от грязи лица были густые брови, придававшие его физиономии выражение гневного страдающего пророка. Вассерман помнил Гинцбурга еще по тем дням, когда…
Вассерман:
— Да, по тем дням, когда он бродил по варшавским улицам и стайки детей гонялись за ним по пятам и выкрикивали ему вслед: «Элия, Элия, желтый месяц на небе про тебя выспрашивал! Что ты, кто ты, Элия, Элия! Грязный страшный Элия, Элия! Жеребенок беленький бил копытцами: что ты, кто ты, Элия, он выпытывал…»
Аарон Маркус, который знал его, утверждал, что Гинцбург вовсе не сумасшедший, что он добрый человек «и, возможно, вовсе не так глуп, как люди полагают». Оценка, вызывавшая большое сомнение в свете того факта, что однажды, удостоившись солидного наследства — богатый родственник, как видно, мучимый совестью за безобразное отношение близких к сыну, отписал ему значительную часть своего состояния, — безумец отказался от своей доли. Аптекарь Маркус, который вследствие своих постоянных забот о несчастном единогласно был признан специалистом по таинственным свойствам его души, любил описывать чудачества Гинцбурга в несколько приукрашенном виде. По его мнению, Гинцбург отказался от свалившихся на него огромных денег потому, что имел собственные твердые принципы и считал, что лучше ему, человеку, прожить свою жизнь нищим и бездомным, чем прикоснуться к презренному металлу или иному имуществу и воспользоваться семейными связями. Это мнение наталкивалось, как правило, на кривые усмешки и тоскливые вздохи, но Маркус не переставал видеть в Гинцбурге ламед-вавника (скрытого праведника) или тайного философа. Кстати, это именно Маркус, провизор с возвышенной душой, оказался тем, кто первым назвал Гинцбурга Диогеном. К его немалому огорчению, кличка мгновенно пристала к сумасшедшему. Гинцбург все-таки не зашел так далеко, как Диоген, который имел обыкновение, дабы изнурять свое тело и душу, в холодные зимние дни сбрасывать одежду и обнимать ледяную бронзовую статую, однако так же, как греческий философ, преднамеренно нарывался на обиды и оскорбления, досаждал прохожим, назойливо путаясь у них под ногами и появляясь всегда в самом неподходящем месте в самый неподходящий момент, и беспрерывно тянул один монотонный вопрос: кто я? Кто я? И даже если кто-нибудь утруждал себя ответом, не обращал на это никакого внимания и продолжал на той же заунывной ноте: кто я? Кто я? Если же его прогоняли пинком, удалялся, прихрамывая и понуро уставившись в землю, но руки оставались раскинуты в том же самом недоуменном вопросе. Если бы не добрые люди, подобные Аарону Маркусу, которые жалели его и время от времени подавали кусок хлеба, он несомненно умер бы от голода. Однако более, чем в пропитании, Гинцбург нуждался в человеческом внимании: ему настоятельно требовалось, чтобы кто-нибудь выслушал его. Хоть и без светильника в руке, но всем своим видом возглашал: «Ищу человека!» А найти случалось чрезвычайно редко. В самом деле, сколько можно стоять и слушать «Кто я?». Вассерман и сам признался, что несколько раз решал, из чувства сострадания, остановиться и прислушаться к Элии Гинцбургу, но очень быстро отказывался от этой мысли. Он презирал себя за ту легкость, с которой отступал от своего решения, причем вовсе не из-за вони, исходившей от сумасшедшего, — это как раз не смущало Вассермана, не различавшего дурных запахов, — но оттого, что монотонный вопрос, на первый взгляд совершенно абсурдный и тем не менее всякий раз заново наполнявшийся безмерным отчаяньем, заставлял его испытывать какую-то смутную неловкость.