Детям | Страница: 25
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Был вечер. Гасла заря на вершине старого вяза.
Жук собирался лезть в конуру на ночлег. Воробей, вылинявший и теперь точно покрытый лаком, чистил носик на крыше конюшни. Клонило ко сну, веяло тишиной и покоем.
– Вот и конура у вас… чик-чик! – сказал воробей.
– Да… конура…
– И новый забор… домик поправили… Мэри в теплой конюшне… Что!.. Помните, я говорил вам?.. Мэри сделала свое дело… А вы не верили все…
– Да…
«У-ух… у-ух…» – глухо отдалось в конюшне.
Воробей вздрогнул. Жук ниже опустил голову.
– Слышите?.. Что это с ней? – спросил он. – Тогда этого не было…
– Да… особенно ночью… Я слыхал, что это болезнь…
– Болезнь? – еще ниже опустил голову Жук.
– Мэри стала не та… Помните, как она пугала меня в кормушке?..
– Да… да…
– Теперь этого нет… и мне скучно. За ночь она не скажет ни слова, а овес лежит днями… Мне жалко ее, Жук…
– Ах, не говорите!.. Мэри уже не подымает свою подковку. Помните, когда она вернулась, я бросился к ней, схватил лапами ее ножку… А она нагнулась, полизала меня и так печально взглянула… Я плакал всю ночь… Что с ней?.. Как я хотел бы вернуть прежнее время!..
«У-ух… у-ух…» – кашляла Мэри.
– Я, знаете, почти не ночую в конюшне, – сказал воробей. – Мне страшно от этого уханья… А хозяин-то стал еще скучнее… На днях я видел, как он стоял в конюшне и плакал. Смотрите, вот он идет…
Дверь домика отворилась. Хозяин, желтый, худой, небритый, спустился с крылечка, отпер конюшню и вывел Мэри.
– Ну, погуляй… подыши… голубка…
Мэри остановилась возле колодца. Она опустила голову и смотрела в землю, раздумывая о чем-то… Плечи ее провалились, влажная шерсть потускнела, гривка не топорщилась щеткой… Ввалились бока, гнулись тонкие ноги.
«У-ух… у-ух…»
Мрачно глядел на нее старый жокей. Что он думал?..
Качаясь, подошла Мэри к Жуку, обнюхала морду, фыркнула и отошла к конюшне.
– Что же, не хочешь гулять?.. Все лежишь… Ноги дрожат у тебя… – сказал старый жокей.
Мэри подняла голову. Слабые синеватые глаза ее стали больше и глубже.
«И-их… у-ух… у-ух…»
Она хотела заржать и закашлялась, бессильно тряся головой.
– Подожди, покрою тебя…
Он прошел в дом.
– У вас… конура новая… Жук, я очень рада…
– Ах, не все ли равно! – сказал Жук. – Я вас так редко вижу… Вы, Мэри, забыли меня…
– Нет, что вы… Я только немного устала… после скачки и не могу стоять… и играть с вами, Жук… Раньше, когда я была в старой конюшне, я играла… А теперь… Жук, вы помните Ваксу?.. Ну вот… и я стала та кой же…
– Здравствуйте, Мэри!.. Вы не забыли меня? Чик-чик… – спросил воробей.
– Ах… это вы… Мне трудно… поднять голову… Я вас плохо вижу… Нет… я вас помню… Но почему вы не кричите так, как тогда?
– Невесело мне… чик-чик… – грустно сказал воробей.
Из домика вышли хозяин, Анна Федоровна, Надюшка и Сенька.
– Мэли!.. Мэли!.. – захлопала Надюшка. – Покатай, дедуска!..
– Нельзя. Мэри больна…
Все замолчали. Сенька смотрел исподлобья. Старик надевал на Мэри попону.
«У-ух… у-ух…»
– Дедушка! Зачем ты уводил Мэри? – вдруг спросил Сенька. – Она была здорова тогда… Зачем ты уводил ее, зачем?..
Старый жокей ничего не сказал и повел Мэри в конюшню. Долго сидела семья на крылечке. Потемнел старый вяз. Ночь опускалась на домик.
– Зачем все это случилось?! А-а-а… – глухо сказал старый жокей. – Лучше бы не возвращаться совсем…
Он положил голову на руки.
Проклятая слава!..
Осенней ночью, когда гудел старый вяз, воробей вдруг проснулся. Его испугал стон. Бил холодный дождик в оконце. Что-то хрипело.
Воробей в страхе метнулся, ударился в стенку и опустился. Стало тихо-тихо.
– Мэри!.. Это вы?..
Ни звука.
Он почувствовал под собой что-то теплое, влажное.
– Это вы, Мэри?!
Он скакнул раз-другой… Это гривка – она не дрожит!
Он ступил на голову, на ноздри, сел на ухо… Твердое ушко не дергается.
Ему стало страшно. Он нашел знакомую щель и попал под холодные струи дождя. Вон в темноте белеет конурка.
– Жук!.. Проснитесь!!
– Что такое? Что?.. – высунулась лохматая голова.
– Мэри… там… умерла наша Мэри… Жук, что нам делать?! Чик-чик-чик… – затерялся печальный писк в шуме ветра.
Жук вылез, нагнул морду к земле и завыл…
«У-у-у-у…»
В доме было темно. Скрипел старый вяз, падали листья.
Тревожно спал старый жокей.
1907
Мой Марс
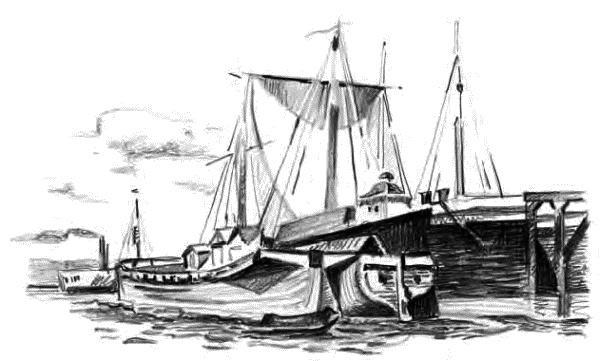
I
Взгляните на ананас! Какой шишковатый и толстокожий! А под бугроватой корой его прячется душистая золотистая мякоть.
А гранат! Его кожура крепка, как подошва, как старая, усохшая резина. А внутри притаились крупные розовые слезы, эти мягкие хрустали – его сочные зерна.
Вот на окне скромно прижался в уголок неуклюжий кактус, колючий, толстокожий. Стоит ненужный и угрюмый, как еж. И сколько лет стоит так, ненужный. И вдруг ночью, на восходе солнца, вспыхивает в нем огненная звезда, огромная, нежная, как исполинский цветок золотой розы. Улыбнулся угрюмый еж, и улыбнулся-то на какой-нибудь час. И долго помнится эта поражающая улыбка. Эти суровые покрышки, угрюмые лица, нахмуренные брови!
Вот угрюмый господин сидит на бульваре, читает газету и через пенсне строго поглядывает на вас.
По виду-то уж очень суров. А я могу вас уверить, что это величайший добряк, и на бульвар-то заходит, чтобы поглядеть на детишек, послушать их нежные голоски.
А вот деловой человек. Он только что сидел в своей лавке и, забыв все, выстукивал на счетах и выводил в толстой книге цифры и цифры. И кажется, нет для него ничего, кроме его цифр и барышей.
Кажется… А попробуйте заглянуть в него хорошенько. Да незачем и заглядывать. Придет такой случай, что он и сам раскроется, как угрюмый кактус, и выглянет из него то, что, казалось, совсем задавили в нем его толстые книги и цифры.
Да, наружность обманчива. Да вот вам пример: мой Марс, мой близкий друг, простой двухгодовалый сеттер. Он тоже… как бы это сказать… ну, обманчив, что ли… Да, простой, как можно подумать с первого взгляда. Весь рыжий, ласковые глаза. Очень смирный, когда спит на коврике, под вешалкой. Даже иногда улыбается во сне. Очень мило виляет роскошным хвостом. А вы попробуйте у него выдернуть косточку из пасти! Вы попробуйте. Я раз попробовал – больше не пробую. И вообще, шельма порядочная. А как он делает стойку на… мух! Я не охочусь, и он поневоле упражняется над этой дичью, чтобы не зарыть в землю таланта. Стоит полюбоваться! Весь он – ласка и нежность. Не думает ни о костях, ни о почтальоне, которого считает врагом дома. Млеет и тает с поднятой лапкой, и в карих глазках его не то грусть, не то мольба. И мухи с восторгом взирают на него и польщены, польщены… Ляск! – и мухи как не бывало.