Код Мандельштама | Страница: 14
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Конфронтацию греха и чистоты (а по Мандельштаму НОЧИ и ДНЯ) можно продемонстрировать так:
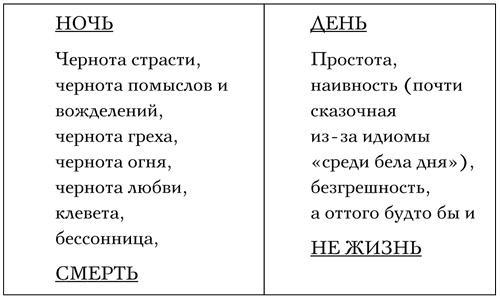
Круг замкнулся. Противоречия стерлись. Нет ночи без дня.
Нет Федры без Ипполита. А что же Ипполит без Федры?
Об этом стоит еще подумать. А пока отметим, что уже в 1916 году ночь определяется поэтом как МАЧЕХА.
Федра — мачеха. Федра — ночь. Ей сострадает рожденный ночью (и в прямом, и в поэтическом смысле) поэт, к ней тянется, ее боится.
Ночь и смерть. Ночь и любовь
В стихотворении «Зверинец» (1916), посвященном войне, охватившей Европу, поэт пишет о битве, в которую вступили народы в начале XX столетия — «в начале оскорбленной эры». Стихотворение это перекликается с державинской одой «На взятие Измаила», где поэт говорит о тщете войны:
Напрасно, бранны человеки!
Вы льете крови вашей реки,
Котору должно бы беречь.
Но с самого веков начала
Война народы пожирала;
Священ стал долг: рубить и жечь.
А в стихах «На шведский мир» Державин отождествляет воюющие стороны с орлами и львами:
Орлы и львы соединились:
Героев храбрых полк возрос;
С громами громы помирились:
Поцеловался с шведом Росс.
У Мандельштама в «Зверинце» сражаются меж собой германский орел, британский лев, галльский петух. Что может сделать всего лишь поэт, чтобы вернуть миру «воздух горных стран — эфир»?
Я палочку возьму сухую,
Огонь добуду из нее,
Пускай уходит в ночь глухую
Мной всполошенное зверье!
В глухую ночь — ночь небытия (туда, где грех, преступные страсти, черные помыслы) — должны уйти воюющие. «Мы для войны построим клеть», — надеется поэт:
В зверинце заперев зверей,
Мы успокоимся надолго,
И станет полноводней Волга,
И рейнская струя светлей
И умудренный человек
Почтит невольно чужестранца…
Традиционный по отношению к ночи эпитет (см. у Тютчева: «Во мне глухая ночь, и нет для ней утра…»).
Традиционная чистота поэтических помыслов.
Неповторимый подход к теме.
Чрезвычайная трагическая энергетика стиха.
Однако перспективы ложны, и нет пока понимания войны, как факта жизни космической. Война ощущается поэтом как зоологическая стадия в развитии человечества, война — дело человека примитивного, не «умудренного», грех и зло.
А тем временем глухая ночь надвигается. Не потому ли в любовной лирике возникает тема смерти, и долгая ночь любви кажется отравленно-бесконечной:
Пусть говорят: любовь крылата,
Смерть окрыленное стократ;
Еще душа борьбой объята,
А наши губы к ней летят.
И столько воздуха и шелка
И ветра в шепоте твоем,
И как слепые ночью долгой
Мы смесь бессолнечную пьем.
(«Твое чудесное произношенье…», 1917)
Ночь и смерть вновь объединяются, равно как ночь и любовь. Выстраивается характерный для поэта ряд:
(КРЫЛАТАЯ) ЛЮБОВЬ — (СТОКРАТ БОЛЕЕ ОКРЫЛЕННАЯ) СМЕРТЬ — (ДОЛГАЯ) НОЧЬ
Солнце черное, солнце желтое
В этот период творчества ночь-мачеха уведет в свою тьму навсегда мать поэта, и горе заставит увидеть солнце черным:
Эта ночь непоправима,
А у вас еще светло.
У ворот Ерусалима
Солнце черное взошло.
И опять, как и прежде в лирике Мандельштама, свет дня отравляется чернотой — на этот раз — чернотой солнца. Поэтому не кажется парадоксом, что свет дня видится поэту еще более страшным:
Солнце желтое страшнее —
Баю-баюшки-баю —
В светлом храме иудеи
Хоронили мать мою.
Колыбельная, которая поется днем! Колыбельная, убаюкивающая навеки. Колыбельная для кого? Для навсегда ушедшей? Для того живого, кто хочет забыться, не видеть?
Благодати не имея
И священства лишены,
В светлом храме иудеи
Отпевали прах жены.
И над матерью звенели
Голоса израильтян.
Я проснулся в колыбели,
Черным солнцем осиян.
(«Эта ночь непоправима», 1916)
День и ночь вновь противопоставлены и слиты воедино одной темой:
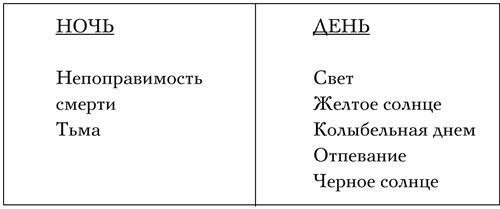
И соединены день с ночью словом СМЕРТЬ.
Вновь день-жизнь страшнее ночи-смерти.
Ночь — мачеха — Федра, влюбленная, клевещущая, отнимающая родное, ночь — смерть.
День же — похороны, окончательное прощание, НЕ ЖИЗНЬ.
Ночь преступно притягательна. (Можно ли любить мачеху, ту, что отторгает, отшвыривает, зовет, можно ли тянуться к ней?)
День светел, а хочется в ночь.
Не отсюда ли колыбельный напев, возникающий днем?
Примечательно, что Ахматова отождествляла образ ночи из этого стихотворения с собой, о чем свидетельствует запись в дневнике Н. Н. Пунина: «На вопрос, почему же хочет расстаться — отвечала, что не может, что запуталась, стихами Мандельштама сказала: „Эта (показала на себя) ночь непоправима, а у Вас (показала на меня) еще светло“» [37] .
Черно-желтые сочетания вызывают детские воспоминания «хаоса иудейского» в душе поэта: «Вдруг дедушка вытащил из ящика комода черножелтый шелковый платок, накинул мне его на плечи и заставил повторять за собой слова, составленные из незнакомых шумов, но, недовольный моим лепетом, рассердился, закачал неодобрительно головой. Мне стало душно и страшно. Не помню, как на выручку подоспела мать» («Шум времени. Хаос иудейский»).
Черно-желтое — от рождения, от матери, как основа жизни, можно ли убежать в нечто третье, если мир построен на выборе одного их двух? Можно ли выбрать НЕ ДЕНЬ и НЕ НОЧЬ, если и там и там подстерегает ужас? Но до поры до времени на выручку еще может подоспеть ЖИЗНЬ — МАТЬ. С уходом матери обрывается одна из надежнейших связей с жизнью…
Родное — материнское и — страшное, рождающее тревогу, черно-желтое воплотится и в стихотворении «Среди священников левитом молодым» (1917):
Среди священников левитом молодым