Восьмая нота | Страница: 14
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Рыжая

Когда с боями выходил из юности, она вдогонку любви добавила.
– Отвернись, у меня коленки зеленые.
– А я знаю.
– Что ты знаешь?
– Они у тебя еще не поспели.
– До чего?
– До лунного отлива.
– Дурак.
– Давай оботру?
– И не думай даже.
Мы с ней за щавелем, как за счастьем, бегали вдвоем. Стряхнешь росу с листа: холодом обжечься боязно, – проведешь им по лицу, улыбнешься – и в рот. От удивления плакать просится, а мы морщимся и жуем. Потом с чего-то так смешно становится, хохочем и соли не нужно совсем. Во рту оскомина, пить страсть как хочется, и счастье потерять боязно. Вот так и ходили целый день с оскоминой во рту. А все думали – белены объелись.
– Скажи, о чем пишут в книгах?
– Там не пишут, там руками машут.
– Кому?
– Тем, кого им не хватает.
Она была такая рыжая, как радость, как горсть песка через край полуденного солнца. Такая рыжая, что все щурились.
– Ты окна любишь?
– Не знаю.
– А я люблю, в них, как в океанах, есть всё!
Она была такая… Грусть отторгнутой листвы по ту сторону стекла. Она была рыжая, пряди ее волос смущали всю нашу округу. Такая… как радуга осенняя.
– Скажи, трудно быть толстым?
– А ты набери в себя воздуха и не дыши.
– И что?
– Вот выдохнешь, всё сразу и поймешь.
Она была такая рыжая. Но ее локонам ладонь моей луны не светит.
Однажды высотой поманило. Забрался на дерево и повис на ветке.
– Зачем ты так?
– Пока не скажешь, что любишь, не слезу.
– Слезай. Это глупо. Я еще никого не люблю.
– Не скажешь, разобьюсь.
– Ладно, ладно… скажу.
– Говори быстрее, у меня руки занемели.
– Сможешь хоть минуточку повисеть на одной, всё скажу, что попросишь.
Хотелось, очень хотелось, но сил не было висеть и на двух, я спустился с высоты, позорно спустился, ползком.
Она была такая рыжая… и уже не моя. Сейчас одной поднимаю больше, чем остальные двумя. Смешно, я не рыжий, а руки в веснушках.
Мой Мозамбик
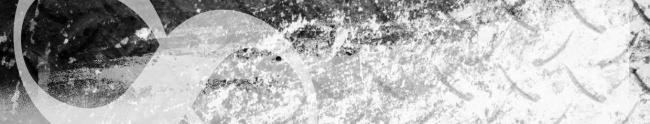
В минувшие времена один мой знакомый физику в Африке преподавал. Мозамбик, Зимбабве, Занзибар. В зеленых узорах этих слов до сих пор тоска, как заноза, свербит и свербит. Кроме фильмов развлекаться было нечем. Правда, один из наших затащил черную красавицу в номер, попытался отмыть в растворе марганцовки. Так она оттуда мигом выскочила и давай по улочкам носиться. Спасибо местным полицейским, обдули – наши бы свистеть не стали. Мужика жалко, пробу и ту не успел снять.
Ладно, ближе к делу. Фильмы крутили про революцию наши и порнографию шведскую. Африканская публика на революцию и на секс реагировала одинаково. Все вскакивали и дружно рукоплескали победам красных бойцов над белыми и шведских мужиков над бабами.
Молод тогда был, слушал да посмеивался. А тут в глянцевом журнале вычитал, что народ Мозамбика по ощущению счастья в первой мировой десятке стоит, а наш российский в самом конце сотни куксится. Вот и задумался на закате, а я с кем? Со своими на конце или пора в Мозамбик собираться? Вот такой Занзибар получается.
А тут еще жена прежняя позвонила. Обычно она является без звонка и в мое отсутствие. Бьет, рвет, икру мечет и удаляется удовлетворенная восвояси. А тут позвонила и орет, как в первую брачную ночь:
– Я пьяна, пьяна в стельку, понял?
– Слышу, можно не объяснять, всё ясно без слов.
– Идиот. Тебя желаю до чертиков, чудище мое.
Странно, мне нестерпимо тоже захотелось ее теплого, нетрезвого тела.
– Возьми такси, деньги у меня есть.
Ждать не было мочи. Перемыл посуду, подтер полы, носки выстирал. И она явилась – мокрой, желанной, полуодетой, без единого слова в устах. Я пил чай, держа паузу. Лицо у моей бывшей, как у ткачихи с картин соцреализма. Но поворот шеи и бёдра – как у богини.
– Ну, что ты делаешь, пьяная дура, мы же с тобой разведены?
– Ты мост или мужик, в конце концов?
Так начался медовый месяц. После свадьбы его не было, пахали на благо Родины. А вот после развода удосужились в моей холостяцкой квартире, в ее общаге, в парке, в лифтах. И всё без единого слова. Месяц не могли оторваться друг от друга, тела до мозолей заездили, простыней с десяток порвали, рубах и прочего барахла. На тридцатые сутки ранним утром были так бешено близки друг к другу, как в жизни невозможно. Потом поотваливались по разные стороны кровати, вздохнули в унисон, встали на ноги – трезвее не бывает, а слов так и не нашли. Разразились в адрес друг друга дружными аплодисментами. Она оставила ключи и удалилась…
Нет, я все-таки не наш какой-то. Пора в Мозамбик собираться, мозги у меня явно оттуда. А от политики, как от пол-литра, голова трещит, разбавляют черти и те и эти.
В сумерках руки чешутся, хочется хлопать, да ладоней недостает, тех, из Мозамбика. Вот такая зараза засела, дай похлопать – и всё тут. В театры не хожу – там попкорном воняет. Книг не читаю – хорошие в детстве остались, а этими, из союзпечати, как кирпичами, хочется окна бить. Не рыбак – пойманной рыбе радоваться не могу, сам на крючке. Из своего народа, как из кожи, не вылезти, но обидно, черт возьми, в конце очереди за счастьем стоять. Там солнце, у нас снег. Зима-зануда, а жить надо. Мозги наружу погреться не выложишь. Думал-думал, и так захотелось яйца вкрутую. Сварганил, очистил, торопясь, белок брезгливо отколупал и обнаружил яркое маленькое солнце, и так в ладонях зачесалось, что не выдержал, захлопал желтому карлику. Холодно, внутрь заглянуть охота. Хлопать, видно, главная необходимость в жизни. В Мозамбике про то знают, мы не доросли. Счастье, оно до хлопков ох как охоче.
Ночь за окном, сижу на кухне и яйцу хлопаю, вроде как сам из него вылупился. Одним словом, забирайте в Занзибар. Не нашим по счастью я оказался. Мозамбику мужики нужнее.
Наш Вася

Вася основателен, аккуратен и конопат. По утрам без полотенца в коридор не выходил – он шествовал с ним под руку. Щетка с парой точек зубной пасты, голубая мыльница с розовым по-детски языком-обмылком – вот и всё его богатство. Вася долго и тщательно мылся, потом так же серьезно причесывал свои редкие белесые волосы. Чистый, сияющий как золото самоварное, направлялся гладить брюки и рубаху ношеные-переношеные. Наша прокуренная и пропитая общага при нем обрела уют и покой. А когда приходила редкая посылка из дома, праздника того хватало на всех. Он ласково касался каждого плеча и торжественно произносил: