Гугенот | Страница: 36
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Дальше Подорогин слушать не стал и выключил магнитофон. Закурив, он вышел в вестибюль и присел на корточках к стене.
Если кому-то пристало вычеркнуть его из жизни, не убивая, то, разумеется, цель эта была достигнута. Сегодня у него не было ни семьи, ни дела, ни даже сколько-нибудь внятного вида на будущее. У него был паспорт покойника и внешность, напоминавшая покойного при жизни. Официально он теперь имел право удостоверять свою личность только одним документом — свидетельством о смерти, и свидетельство это, скорей всего, уже было предъявлено Наталье. Однако зачем — и, самое главное, кому — потребовалась его гражданская казнь?
Лет шесть тому назад, после ночного купания в Байкале, у него вынырнул простатит. Тогда, следуя клиническому напутствию — ни женщин, ни спиртного, ни острого, — он чуть не сошел с ума. Мало того что позади остался двухнедельный курс лечения (включая день, когда, в отсутствие медицинских перчаток, врач был вынужден использовать презерватив), так Подорогин, взявшись подстраховать урологов, опознал у себя по фельдшерскому справочнику то, что затем практически слово в слово ему подтвердили в институте онкологии. Не разжившись иными действенными рецептами, кроме общепринятых изуверских, он сдал анализы, после чего пил почти неделю, а затем, придя за результатами, был буднично и банально избавлен как от опухоли, так и от сумасшествия. В то благословенное утро, так и не протрезвев толком, он воскрес, заново родился к жизни. Что сейчас?
День он провел так, словно был в городе приезжим. Его либо толкали со всех сторон, либо обходили загодя, как неодушевленное и опасное препятствие. Он был бельмом на глазу разом у всей толпы, методично оттиравшей его то на обочину, то в подворотню, то в сугроб.
На первой же станции метро его атаковал калека с атласом городских достопримечательностей и толстенным энциклопедическим словарем. Оба издания на ломаном английском ему были предложены за сто долларов. Подорогин расплатился без слов. Обалдевший коммивояжер, скрипя протезом, еще недолго влачился следом, требуя каких-то гарантий, но выдохся, отстал с проклятиями. Атлас Подорогин выбросил за ближайшим углом, со словаря сорвал защитную пленку и нес его в скрещенных руках, словно младенца.
Наугад, влекомый неиссякаемым подземным потоком, он входил в просторные штольни переходов и также вслепую втискивался в поезда. В лицах попутчиков ему чудилась печать общей тайны, загадки, но, видимо, лишь потому, что в отличие от него все они только отбывали свое временное бездвижие в тесноте. Исключение составляли дети. Тайна, в которую были посвящены окружавшие их взрослые, оставалась за семью печатями и для них. Они непоседливо оглядывались, хныкали, теребили родителей, и одна такая маявшаяся девчушка, встретившись с Подорогиным глазами, немало удивленная отзывчивостью «посвященного», кокетничала с ним до тех пор, пока ее не одернули. Подорогину же вспомнилась Маруська, бывшая с девочкой одних лет, он пробрался в угол вагона, приставил словарь к ходящей стене и уперся лбом в обложку…
Через час-другой, придя в себя, он вышел на первой попавшейся станции. Названия станции он не слышал во время объявления и не удосужился посмотреть на стене. По пустому, без архитектурных излишеств перрону, по отсутствию эскалатора и попрошаек он видел лишь то, что это окраина.
На перекрестке у привокзальной площади собралась редкая толпа. На обочине стояла карета скорой помощи с распахнутыми задними дверцами и патрульная машина с включенным маячком. Далее за светофором поперек полосы застыл разбитый «Москвич». Рыдающую женщину с окровавленным лицом и в разорванном полушубке санитары никак не могли уложить на тележку, пытались промокать ей кровь и огрызались друг на друга. На заледенелом асфальте Подорогин увидел тело под простыней, и долго еще, подтягивая в руках тяжелый словарь, не мог отделаться от дурацкой мысли, что окровавленная женщина жива, в то время как на простыне, наброшенной на покойника, нет ни единого пятнышка. Дурацкая эта мысль мало-помалу съежилась и вовсе до невменяемой фигуры — «чистый труп», — и он, взяв такси, назвал водителю рабочий адрес Натальи.
Время шло к обеду. Подорогин расположился за столиком у окна в кафе напротив здания «Филип Морриса». Официант смерил взглядом след от его грязных ботинок на полированном полу. Подорогин заказал стандартный ленч и, не глядя пролистывая словарь, посматривал за входом в представительство. Наталья, в отличие от прочих сотрудников офиса, предпочитала корпоративной столовой именно это кафе. Однажды она даже отмечала здесь свой день рождения. Ее любимый столик был на антресолях с аквариумом в глубине зала. Знал об этом не только Подорогин, выбравший сейчас место, откуда одинаково хорошо просматривались антресоли и вход в представительство, помнили об этом и официанты, всегда резервировавшие столик к обеду. Столик пока был не занят. Перед входом в представительство прогуливался охранник с дубинкой.
Отложив словарь, Подорогин закурил. Человек отказывается от дешевого питания в офисе и предпочитает платить за более изощренное — хотя и такое же сомнительное — меню большие деньги только в двух случаях: он либо сноб, либо ему есть, что скрывать. Да, первое время, когда устроилась на работу в «Филип Моррис», Наталья обедала здесь вместе с ним. Он сам настоял на этом. Поблизости «Нижнего» не было ни одной порядочной закусочной, а в столовую представительства пускали только своих. Да, впоследствии, когда он съехал с квартиры, они ходили сюда с Маруськой и Маринкой, это было единственное уместное пристанище в будни, где он мог общаться с дочерьми. Однако Наталья, экономившая после развода буквально на всем, в столовую так и не вернулась. Почему — он мог только догадываться. Как догадывался, например, о помрачительной прихоти Штирлица подкладывать своих изжитых любовниц друзьям. Или как бездоказательно был уверен в том, что когда в прошлом году Шива ошиблась телефонным номером, Наталью взбесила вовсе не новость о его измене (не было это никакой новостью), но известие о том, что Штирлиц — Штильман Ростислав Ильич — шесть лет тому назад бросил ее ради Шивы.
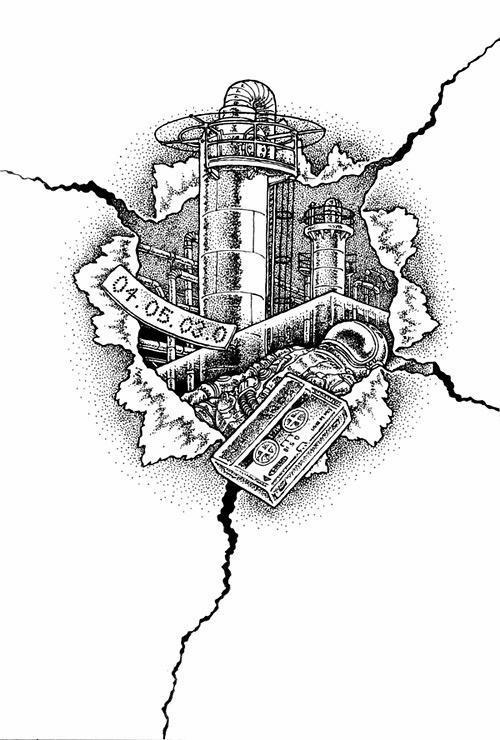
Принесли первое, густую, как каша, солянку с расползшейся долькой лимона и плоской, точно изюм, маслиной. Подорогин стал рассеянно есть.
Интересно, что и до сих пор, когда он охладел к Наталье, подобные воспоминания — да и не воспоминания даже, так, реконструкции — могли приводить его в состояние совершенного исступления. Не то что до развода, даже сегодня помыслить Наталью с кем-то в постели было для него так же тяжело, как, например, вообразить неизлечимо больными дочерей. Однажды в школе он поколотил Штирлица, у которого обнаружился его пропавший перочинный нож. Про никудышный ржавый самопал с рыхлым, залипавшим в пазу лезвием он к тому времени и думать-то давно забыл, выбросил его тотчас после расправы, однако если б на следующий день эта никудышная вещь снова объявилась в обороте…
Проглотив очередную порцию супа, он понял, что обжег горло, бросил ложку и подышал ртом. У представительства по-прежнему прохаживался охранник. На антресолях было пусто. Подорогин позвал официанта, сказал убрать солянку и, подумав, спросил с апельсиновым соком водки.