Иконы | Страница: 78
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
КОТОРЫЙ НЕ ПОКАЗЫВАЕТ СВОЕГО ЛИЦА.
ТЫ НЕ МОЖЕШЬ МОЛИТЬСЯ БОГУ,
КОТОРЫЙ НЕНАВИДИТ РОД ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ.
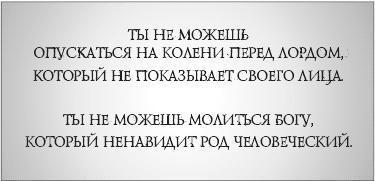
Глава 30
Птицы
Птицы обычно пищат, как резиновые игрушки, те, что даешь какой-нибудь собаке. Они бормочут, как стремительный порыв ветерка или бумажный веер. Как звонок велосипеда, который издает один и тот же звук на одном и том же месте, при повороте, снова и снова. Как обезьяна в дурном настроении, ну, по крайней мере некоторые из обезьян. Как старый матрас в тот момент, когда ты на него садишься. А иногда, ранним утром, они издают сразу все эти звуки.
Так говорил мне падре.
Я думаю об этом, соскребая грязь с рук и ног у подтекающего крана в амбаре. Я хватаю еще одну пригоршню соломы и улыбаюсь, вспоминая горячий душ и сверкающие краны в Посольстве. Но мой желудок буквально переворачивается при мысли о После, и я закрываю глаза, желая отогнать эти воспоминания.
Лукас куда-то пропал на целые сутки, он отсутствует уже почти двадцать четыре часа. Он отправился разузнать о своей матери, если еще есть что узнавать или у кого спрашивать. Когда я говорю с собой честно – по-настоящему честно, – я не могу сказать, вернется ли он вообще когда-нибудь.
Я заставляю себя снова думать о птицах.
Птицы.
Я гадаю, доводилось ли моему отцу слышать множество птиц. Этим утром я почти час роюсь в письменном столе падре, выясняя все, что возможно, о моих родных, начиная со старых фотографий, которые падре сохранил для меня. Старые фотографии и старые бумаги. Мой отец работал лесником в Калифорнии. Видимо, ему приходилось много времени проводить в центре земли грассов, чтобы уберечь деревья и животных от лесных пожаров. А моя мать рисовала его, сидя под каким-нибудь деревом.
Мой отец ожидал беды, но смотрел не в том направлении. Он не смотрел в небо. Он наблюдал за деревьями.
Я закрываю едва капающий кран.
Одеваясь и выжимая воду из волос, я пытаюсь понять, что заставило отца выбрать такую службу?
Может быть, его подтолкнуло к ней то же чувство, что свело его с моей матерью. Я представляю множество рассветов и закатов, которые они видели вместе, которые все мы видели вместе в той жизни, которую я потеряла, не прожила.
Мама могла бы научить меня рисовать. Отец мог бы научить меня, как пользоваться биноклем. Я могла бы слушать голоса многих тысяч птиц.
Я гадаю, что именно я потеряла, когда все это исчезло. Как птицы. Что будет, если ничто не поможет нам, или городу, или Сопротивлению?
Ро и Лукас. Когда они не ссорятся друг с другом.
Руки Тимы.
Фортис и его волшебная куртка.
Док и его шуточки.
Я думаю обо всем том, что мы потеряли, и обо всем том, что оставили нам Лорды.
И получается, что потерять можно еще очень многое.
В тишине я прислушиваюсь к птицам, когда вдруг за моей спиной раздаются шаги. Я чувствую знакомое тепло, текущее ко мне снаружи, а потом изнутри меня вовне.
Я не могу в это поверить, но другого похожего ощущения просто не существует. Значит, это должно быть правдой.
– Лукас! – произношу я еще до того, как вижу его, и бросаюсь к нему, прижимаюсь к нему. – Я уже начала думать, что ты погиб.
Но слова не выражают того, что должны выразить, в них нет настоящего веса. И не может быть. Это ведь просто слова. Они не могут причинить такую же боль, как неизвестность.
– Нет, – улыбается Лукас. – Я здесь.
Жар распространяется от моего сердца на щеки.
– Но что случилось? – Я поднимаю голову и смотрю на него, крепче обхватывая его за шею.
– Я добрался до берега напротив Санта-Каталины, но не смог попасть на другую сторону. Говорят, в Посольстве никого нет. Я там не мог особо задерживаться, но мне понадобилось время, чтобы оттуда выбраться. Дол, они окончательно закрыли Трассы. На следующий день после взрыва.
– А твоя мать? – Я сдерживаю дыхание.
– Она уехала. ГПП Миядзава отозвал ее в Пентагон. Я не знаю, что теперь будет.
Новость мрачна, однако предсказуема.
Превратности войны, так обычно говорит Фортис. Я понимаю, что для Лукаса это значит нечто другое. Какой бы она ни была, она все-таки его мать.
– Мне очень жаль. – Я прижимаю ладонь к его щеке.
Губы Лукаса изгибаются в улыбке. Отчаянно беззащитной.
– Ты мне нравишься, – говорит он. – Как долго еще я должен буду вести себя так, словно это неправда?
– Ну, у тебя, вообще-то, не слишком хорошо получается. – Я улыбаюсь ему в ответ.
– Вот как? – Вид у Лукаса удивленный, и я смеюсь.
Я закидываю голову так, чтобы наши взгляды встретились.
– Ты тоже мне нравишься, Лукас. – Я снова улыбаюсь.
Мы целуемся.
Мы по-настоящему целуемся.
Целовать Лукаса – все равно что целовать сам поцелуй. Это невозможно объяснить как-то иначе. Да я и пытаться не хочу.
Все, что мне хочется делать, – это целовать Лукаса.
Это больше, чем просто поцелуй. Это все реально и происходит со мной.
Это свалилось на меня так же внезапно, как корабли с голубого неба. Как чудовища. Как ангелы.
Я чувствую руку Лукаса, когда та ослабляет мою повязку, разматывает длинную тонкую полосу муслина на моем запястье.
Я позволяю ему это делать. Я хочу, чтобы он это делал. Я даже второй рукой сама помогаю высвободить запястье.
А потом его крупная рука накрывает мою руку, и Лукас останавливает меня перед тем, как моя повязка падает на пол.
– Долория…
Я поднимаю голову, и смотрю на него, и впитываю то, как его длинные светлые волосы падают ему на лицо. На порезы и синяки, которые он заработал во время взрыва. Тревогу в его глазах и заботу в его улыбке. Он для меня так же прекрасен, как обсерватория, как кафедральный собор, как сам Хоул. И он здесь, в амбаре миссии, что значит: он не в Санта-Каталине.
– Все думают, что ты умерла, ты ведь знаешь.
Я грустно улыбаюсь ему:
– Может, они и правы. Может, так оно и есть. Может, я стала кем-то другим.
Как бабочка и кокон. Как круговорот воды. Как племя чумашей.
Лукас кивает. В нем всегда есть нечто такое, что понимает те слова, которые я не могу произнести.
А потом моя улыбка угасает, потому что краем глаза я замечаю вдали Ро, наблюдающего за нами. Он один на лугу, а мы одни в амбаре.