Зеркало времени | Страница: 81
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
IV
Последние слова Маргариты Горст
Усилия, потребовавшиеся для моего рождения, непоправимо подорвали здоровье моей дорогой матушки. Она скончалась 9 января 1858 года и была похоронена на кладбище Сен-Винсен, под гранитной плитой, впоследствии столь хорошо мне знакомой.
В последней дневниковой записи, сделанной всего за три дня до смерти, она говорит о радости, принесенной моим появлением на свет, и надеждах, связанных с моим будущим. А также выражает горькое сожаление, что родители по-прежнему остаются в неведении о ее замужестве, а теперь и о существовании крепкой и здоровой внучки. Вот последние слова, написанные моей матушкой, которыми я и закончу:
6 января 1858 г.
Дни мои сочтены, хотя доктор Жирар по доброте своей упорно делает вид, будто все в порядке. Я никогда уже не увижу любимых папеньку с маменькой и милую несносную сестрицу, такую порывистую и непоседливую; а они не увидят свою прелестную внучку и племянницу. Это самое ужасное и противоестественное лишение из всех мыслимых, причиняющее мне неописуемую боль; но таково категорическое требование Эдвина, а я по-прежнему так сильно люблю его — невзирая на наши глубокие разногласия, — что не могу пойти и не пойду поперек его воли, даже перед лицом неминуемой кончины. Ибо я знаю, что Смерть уже расставила кругом свои сети и скоро уловит меня в них.
Я покидала Мадейру, полная радужных надежд на долгое счастье; и одно время я действительно была очень счастлива с Эдвином, счастлива, как никогда в жизни. Но все изменилось — он изменился — после нашего переезда от славного мсье Ламбера, а особенно после рождения нашей милой доченьки, в которой он души не чает.
Когда им не владеет нервное возбуждение, мой муж отчужден и погружен в себя, словно не в силах отделаться от назойливых мыслей о некоем неприятном предмете, не дающем ему покоя. Запираясь в кабинете, он лихорадочно строчит в своем дневнике или пишет письма, не знаю кому; он часами кряду бродит по саду в тяжелом раздумье и часто уходит из дома на ночь глядя, а возвращается перед самым рассветом.
За обеденным столом Эдвин всегда молчалив, даже с мадам; он забросил работу и с недавних пор стал жаловаться на головные боли, от которых, по его словам, помогают только опиумные капли.
Любит ли он меня? Любил ли когда-нибудь по-настоящему? Он был моим самым дорогим, самым добрым другом и товарищем, моей поддержкой и опорой; даже в последние безрадостные месяцы он не раз возвращался ко мне прежним Эдвином, любить которого я не перестану даже по смерти. Но любовь? Чувствовал ли он когда-нибудь любовь ко мне? Истинную, совершенную любовь — в точности такую, какую я питаю к нему с первого момента знакомства? Снова и снова я задаю себе этот вопрос, но не нахожу ответа.
Мадам настояла на том, чтобы остаться со мной до возвращения Эдвина. Пока я пишу сии строки, она сидит у окна, глядя в сад. Мы с ней говорим мало, поскольку нам больше нечего сказать друг другу; но ради спокойствия Эдвина мы достигли известного взаимопонимания, устраивающего нас обеих.
Со своей кровати я вижу голые ветви каштана и высокую серую стену, утыканную поверху железными остриями, которая отделяет нас от нашего соседа, месье Веррона. Скоро эти ветви пустят почки, пробуждаясь к новой жизни, и моя любимая девочка, моя маленькая Эсперанца, моя бесценная надежда будет лежать, суча ножками или видя неведомые сны, под их узорчатой зеленой сенью, пронизанной мягким солнечным светом. Я смирилась с тем, что моя доченька вырастет здесь, в доме мадам, но нахожу утешение в мысли, что она ни в чем не будет нуждаться и получит воспитание, подобающее истинной леди.
Боль возобновилась, а Эдвин с доктором Жираром все не идут. О, скорее бы он пришел!
22
ТРЕТЬЕ ПИСЬМО МАДАМ
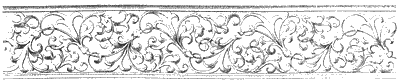
I
У озера
Итак, моя матушка умерла, и приведенная выше запись стала последним письменным свидетельством касательно начальной поры моей жизни на авеню д’Уриш. Из дневниковых выдержек, присланных мистером Торнхау, и мемуаров мистера Лазаря я узнала о своих родителях все, что могла, но, к моему горькому разочарованию, многое по-прежнему оставалось неизвестным.
Меня интересовал, в частности, период после матушкиной смерти, когда у меня остался один только отец, а также обстоятельства его собственной смерти, наступившей в 1862 году, когда мне было пять лет.
Со слов мадам я знала лишь, что через год после кончины жены Эдвин Горст покинул авеню д’Уриш, временно поручив меня ее заботам. Издавна питая интерес к древним цивилизациям Ближнего Востока, он решил попутешествовать там, чтобы собрать материал для популярного труда о Вавилонском царстве — по заказу маленькой издательской фирмы, для которой он делал переводы. Он собирался провести на Ближнем Востоке не более полугода, но уже через два месяца мадам перестала получать от него письма и несколько лет ничего о нем не слышала. Наконец, в апреле 1862 года, пришло письмо из Британского посольства в Константинополе, где сообщалось, что около недели назад мистер Эдвин Горст умер от скарлатины.
Мадам приняла все необходимые меры, и в должный срок тело моего отца было привезено обратно в Париж и погребено рядом с могилой моей матери.
Странно, но я совершенно не помню похорон отца, хотя припоминаю, как мадам сказала мне, что папа никогда не вернется домой. У меня остались лишь воспоминания о том, как через несколько дней меня привели — в первый раз — к двум гранитным плитам, под которыми лежали бренные останки Эдвина и Маргариты Горст.
Уверена, я не горевала о смерти своих родителей, ведь я не помнила ровным счетом ничего ни об одном из них. Они были просто именами, выбитыми на двух невыразительных гранитных плитах. Единственным моим родителем стала мадам, а вскоре к ней присоединился славный, добрый мистер Торнхау. Вот если бы мадам зарыли в холодную землю, а сверху положили камень, я бы горько по ней убивалась, но по Эдвину и Маргарите Горст я не плакала, ибо тогда они были для меня совершенно незнакомыми людьми, вытесненными из моей реальности вседостаточной опекой мадам. Только с возрастом жгучая боль утраты начала просачиваться в мою душу медленным ядом; и лишь сейчас, в огромной усадьбе Эвенвуд, я впервые заплакала по ним.

Той ночью я заснула быстро и утром проснулась на полчаса позже обычного. Но было воскресенье, последнее в году, и церковная служба начиналась только в десять.
Мистер Рандольф сидел один в утренней гостиной, прихлебывая кофе, и при моем появлении выжидательно поднял глаза.
— Мисс Горст! — воскликнул он, расплываясь в сердечнейшей улыбке. — Вот и вы. Я ждал вас. Не желаете ли сегодня после службы прогуляться со мной к Храму? Если это удобно для вас?