Книга тайн | Страница: 113
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Но Ник не слышал ее. Он смотрел на радиатор, вспоминал.
День святого Валентина. Джиллиан, проснувшись, прижалась к нему — лучшее утро в День святого Валентина, какое у него было. Он принес ей в кровать вафли и «Кровавую Мэри», боясь, как бы она не сочла это вульгарным. Он подозревал, что этот праздник для нее — пустой звук, и его не удивило бы, предложи она вместо этого посетить воинское кладбище или съесть куриный бульон. Но она улыбнулась и прижалась к нему, как котенок; правда, когда он попытался ее поцеловать, отодвинулась и пролила томатный сок на кровать.
— Сначала ты должен найти мой подарок, — сказала она ему, и в глазах у нее появился блеск — сигнал, что ему придется оставить свои поползновения.
Он перевернул квартиру вверх ногами. Даже Брета потряс этот кавардак. Джиллиан смотрела, давая ему подсказки, на его взгляд, совершенно произвольные. Вафли остыли. Несколько раз он просил ее открыть ему место, но она в ответ только смеялась и говорила, что любовь свое найдет. В конечном счете он разозлился настолько, что натянул на себя одежду и бросился в парк.
Она так и не сказала ему, где спрятала подарок.
Брет нашел его четыре дня спустя. Он сидел в туалете, рассматривал картинки в каком-то грязном журнале, потом отмотал туалетную бумагу, и рулон на этом кончился. Брет выскочил из туалета, брюки у него болтались на щиколотках, в одной руке он держал крохотный конверт, а в другой — картонную трубочку от рулона.
— Кажется, это тебе.
Брет уже вскрыл конверт. Внутри была открытка с пластмассовым позолоченным ключиком, а под ним подпись: «Ключ к моему сердцу». На обороте Джиллиан написала три слова:
«Ты меня нашел».
— У Джиллиан был один секрет.
Он подошел к радиатору и вытащил рулон туалетной бумаги из держателя. Засунул палец в картонную трубочку.
«Не ожидай найти там что-нибудь», — сказал он себе.
Он увидел щель между трубкой и рулоном, засунул туда палец и раздвинул ее. Картонная трубочка отошла. Его палец ощутил не мягкую туалетную бумагу, а жесткую поверхность писчей. Он вытащил ее. Два листика с прорывами наверху, где они были оторваны с пружинки блокнота.
Он услышал скрип лестничной ступени.
LXXVI
Майнц
Демоны поселились в нашем доме. В это уверовали многие из нас. В течение следующей осени и зимы в Хумбрехтхофе воцарилась безрадостная атмосфера. Люди не говорили мне о своих страхах — знали, как я этого не любил. Но я ловил обрывки разговоров через открытые двери, нервное бормотание себе под нос. Я знал, что некоторые из них все еще побаиваются пресса. Они считали его мощь неестественной, их смущало то, что он многократно превосходит силу человека. Некоторые объясняли эти возможности пресса черной магией. Я думаю, подобные представления питались городскими слухами; их распускали те, кого беспокоило все, что происходит за нашими стенами. И вдобавок те, кто мог догадываться о происходящем, но считал, что такие разговоры пойдут им на пользу.
Но — должен признать — странные вещи и в самом деле происходили. Клянусь, иногда по ночам я слышу скрип и клацанье пресса в комнате подо мной. Я думал, что это, возможно, дневные заботы прокрадываются в мои сны, но постепенно стало выясняться, что и другие слышат эти звуки. Как-то ночью весь дом проснулся от громкого удара. Мы бросились к прессу и нашли на полу разбитую бутылку с чернилами. Мы решили, что это кот. Или ласточки, залетевшие в окно.
В конечном счете это стало чем-то вроде шутки. Когда наборщик забрался в свою кассу и на месте «е» нашел «х»; когда в пачке с бумагой обнаружилась недостача в два листа; когда инструменты Готца вдруг в одну ночь затупились; когда форма, оставленная в прессе, наутро оказалась перевернутой, — в этих случаях люди крестились и обвиняли во всем демонов пресса.
Однажды утром я застал наборщиков в возбужденном состоянии. Это было непривычно: по своей природе они были людьми рассудительными и сдержанными. Они рассматривали наборную верстатку, наполненную литерами. Когда они немного успокоились, Гюнтер объяснил мне, что они нашли верстатку на столе, когда пришли работать. Никто не знал, откуда она взялась.
Я взял верстатку в комнату, где вычитывались тексты, и намазал литеры чернилами, потом пальцами прижал к ней клочок бумаги. Появилась неровная строка:
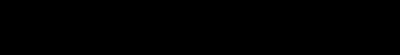
— Это не стих из Библии, — сказал Гюнтер.
Я остерегающе посмотрел на него. Не хотел, чтобы он пугал других.
— Да чепуха это какая-то. Кто-нибудь из учеников набрал вчера. Может, думает стать наборщиком.
— Комната была заперта, — сказал помощник Гюнтера.
— Может, ты забыл вытащить ключ из замка.
— Или его открыл Каспар Драх.
Я набросился на него.
— Драх не имеет к этому никакого отношения. Его вообще нет в доме.
— Я видел его вчера — он крался к кладовке с бумагой.
— Ты ошибся.
Я поискал взглядом линейку или палку, чтобы отдубасить его за дерзость, но под руку мне попалась только верстатка. Я перевернул ее, и буквы выпали на стол. Предложение рассыпалось.
— Ну, видишь — и нет ничего.
Но рассыпать с такой же легкостью мысли я не мог. Когда люди наконец вернулись к работе, я вышел из дома и поспешил в Гутенбергхоф. Заглянул в печатню, где готовилась новая партия индульгенций, потом поднялся на чердак к Драху.
Я не приходил сюда несколько месяцев. В комнате царил кавардак, хотя даже теперь в этом оставалась какая-то аскетичность, свойственная Каспару. Все поверхности, от половых досок до стола в углу, были белы от листов пергамента или бумаги. На некоторых было что-то написано, на других я увидел цветные рисунки или наброски углем. Некоторые были похожи на книжные страницы, готовые для переплета, другие — чисты, как свежевыпавший снег.
Я остановился в дверях.
— Откуда все это?
— Остатки, — сказал Каспар. На нем был шелковый халат, который он надевал для рисования. — И обрезки. Ты должен был постучать.
Он сполз с табуретки и, встав на колени, собрал в охапку бумаги, прижал их к груди и свалил на матрас в углу. Я обошел его, направляясь к столу посмотреть, над чем он работает.
Это был печатный лист из Библии. Несколько мгновений глаза обманывали меня — мне показалось, что это один из моих листов. Но я не успел поставить себя в неловкое положение — здравый смысл вернулся ко мне. Лист был громадный — не менее чем на четверть больше моего, такой большой, что даже в сложенном виде он занимал стол Каспара, вынуждая его ставить краски на пол. Буквы, выписанные коричневатыми чернилами, выглядели довольно четкими, но (по сравнению с теми, что я уже месяц разглядывал на печатных страницах Библии) кривыми, как зубы во рту старика. Странно сказать, но, глядя на них, я испытывал просто-таки отвращение.