Богиня песков | Страница: 41
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Когда его утром несли в паланкине по улицам, усталого, начинающего засыпать, он увидел, раздвинув занавеси, что посреди мостовой на площади пляшет какой-то человек, бешено пляшет в ранний-ранний час, зло наклонив голову и выставив в стороны локти, как большое насекомое. Он кружился и издавал хриплые вопли, задирая голову к небу. Камни пели, и в утреннем чистом воздухе волнами плыл какой-то растительный запах. Таскат с удивлением опознал молитвенный экстаз и высунулся из-за занавески.
– Господин, господин, осторожнее – вскинулся шедший рядом охранник. – Сейчас его приберут. Мало ли, что он может сделать.
– А что он может? – со всем возможным равнодушием откликнулся Таскат. – Он что, колдун?
– Как можно! – охранник отшатнулся. – И не говорите о них! Эта шваль поклоняется богине Сэиланн. Они приходят в города и говорят непристойности, и кидаются грязью в экипажи высоких господ, и кричат на улицах, и танцуют… Не стоит вам на это смотреть.
За пляской наблюдали несколько человек, собравшихся, верно, по делам пораньше, и пять скучающих здоровенных парней из числа городской стражи, привалившихся к стене. Человек плясал все неистовее, изо рта шла пена, и над площадью поднималось солнце.
– Приберут, приберут – успокаивающе повторил охранник. – Будьте спокойны.
Таскат задернул занавески, свернулся клубком и закрыл глаза.
Следующей ночью Таскат проснулся от тонкого-тонкого писка, будто летучая мышь сабрик, прилетевшая из родных краев, танцевала над озером. Он укрылся одеялом с головой и начал было засыпать, и во сне ему чудилась охота.
Писк повторился. Он был гораздо громче, и неприятнее, и зануднее, и …аааааааай! Какая колоратура!
В этой части страны есть только соленые озера, напомнил он себе и проснулся во второй раз. Но подниматься не стал, прислушиваясь к стукам и шорохам.
Кто-то лез по его стене.
Таскат полежал еще некоторое время, потом встал, перегнулся через подоконник и схватил ночного гостя за шиворот. Оторвал от стены, подержал над пустотой и отпустил.
Писк прекратился. Странно, что гость упал беззвучно – башня была такой же высокой, как и все башни летнего дворца Его священного величества. Хорошо ему, он в летнем дворце… Там есть анфилады, где в комнатах такие маленькие окна…
Может быть, гость и не упал?.. Что у него там так пищало? Будто старинное видеоокно, малость неисправное.
Он лег обратно. Ему было совершенно неинтересно, кто в этот раз хотел покуситься на его жизнь, сохранность которой гаранти… обещали… охраняли у дверей… О боги. О проклятые боги. В этой земле богов и то почти нет.
Его волновали две вещи; почему здесь не бывает ни стекол в окнах башен, ни ставень на окнах домов высокородных людей – хотя трехэтажные и одноэтажные домики простолюдинов хвалились внушительными ставнями, запертыми, как и двери, на замок – и почему, во имя неба, здесь никто не даст посланнику еще одно одеяло. Впрочем, это все ненужные хвостодвижения, хвост и так устает. Спать надо в ночной рубахе.
На утреннюю аудиенцию он явился, чихая, и заявил протест.
Следующей ночью он поймал насекомое, которое пряталось в трещинах каменного потолка, изукрашенного мозаикой. Насекомое было прекрасно – зелень и бирюза, шесть острых лапок и два маленьких захвата у челюстей, длинные антенны и тот самый чудесный голос, который спас его от визита ночного гостя.
– Так… Местный вариант сверчка – пробормотал Таскат и погладил насекомое. Оно не боялось.
Ночью ему приснилось огромное существо в пустыне, обвившееся вокруг валуна. Оно сверкало чешуей из драгоценных камней и говорило человеческим голосом. Рядом сидела какая-то непонятная зверушка и встревоженно попискивала.
Они с удовольствием поговорили. Существо обещало сниться еще.
– Вот с кем надо было устанавливать контакт… – подумал Таскат и проснулся.
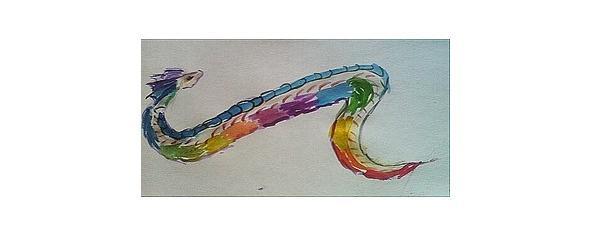
20
Кровь и вода… – неслась от костра буйная песня. – Кровь и вода-а…
В руках у певицы был трехструнный саз, и толстые струны, отзываясь на удар, пели. Она выбивала ритм, тугой, послушный ритм, заплетала его, как косу, через два удара на третий.
Из черных косиц выбились пряди, и хриплый голос был таким, как будто кровь лилась из горла. Певица была не юной девушкой – женщиной, у которой подрастал третий сын.
Никто не отплясывал, не хлопал в такт, отбивая руки об колени.
Женщина кричала в темноту, бросая ночи свой вызов.
Она запрокинула лицо к звездам и пела, как в последний раз, а вокруг, разгоняя мрак, плясали оранжевые отблески костра.
Кровь и вода…
Ясное небо, последний расклад, громовая руда.
Кровь и вода…
Белое облако в черном потоке – я буду всегда.
Буду всегда…
…С неба сорвалась раскаленная белая искра, осколок металла. Она прокатилась вдоль невидимой границы, по шершавой небесной скорлупе, и упала, оставив след. Кто прожжет небесный купол, кто покажет изнанку неба? Что там, за тишиной?
Что там?..
Верные молчали.
Кровь и вода…
Солнце поднимется, камень рассыплется, время – мое.
Мы – навсегда.
Нам подарили жестокое право клинок и копье.
Кровь и вода…
Ты переполнен, и вскроет родник притаившийся враг.
Пьет без труда
Черную влагу последний певец, разоряя очаг.
Дай не упасть
Пересчитавшему раны и шрамы последнего дня.
Мертвым не спать,
Мертвым хранить одряхлевшие храмы и голос огня,
Голос огня —
Кровь и вода…
Всадник летит поперек всей земли, догоняя закат.
Дар свой отдай
Шелесту ветра и звездам последнего цвета песка.
Что ожидает тебя, чужестранец, за ближним холмом?
Белое пламя насытится нами, мы станем огнем.
Камни – в поток…
Камень источен течением крови. Последний – спасен.
Ветер у ног,
Искры, как золото, сталь, как река, человек, что закон.
Путь недалек.
Дай мне урок;
Новое племя насытится нами, мы станем огнем.
…Напряженные нити взглядов тянулись, сплетались, тянулись вверх – дайте, дайте каждому отыскать и поймать в небе ту, свою, единственную звезду!..
Отблески метались, меняли цвета – оранжевый, синий, красный.
Белой стрелой рассекая рассвет, отдариться огнем.
…И кто-то сел у костра, невидимый, и провел над ними своей рукой, отгоняя беду.