Малый мир. Дон Камилло | Страница: 48
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Дону Камилло страшно хотелось развернуться и уйти, но он остался.
— Можно я с вами поговорю как с человеком, не как со священником? — спросил Магуджа.
— Говорите.
— Я хочу умереть так, чтобы мою совесть ничто не отягощало. Я хочу поблагодарить вас за то, что тогда спасли шкуру моего сына.
— Я тут ни при чем, — ответил дон Камилло, — за спасение вашего сына надо благодарить не меня, а Бога.
— Дон Камилло, не надо переводить беседу в политику, дайте мне умереть спокойно!
— Вы не можете умереть спокойно, если не умрете в благодати Божьей! — воскликнул дон Камилло в смятении. — Вы столько любви дали другим людям за свою жизнь, почему же вы ненавидите самого себя?
Магуджа покачал головой.
— А вам какое дело, дон Камилло? — Он помолчал, а потом сказал: — Понимаю, вы волнуетесь, что светские похороны повредят вашей репутации настоятеля прихода. Ну, ладно, я не хочу, чтобы после моей смерти кто-то думал обо мне плохо. От исповеди и причастия я отказываюсь, но, чтобы сделать вам приятное, велю написать в завещании, что согласен на отпевание.
— Чтобы сделать вам приятное, я готов отправить вас прямо в преисподнюю! Мы не на рынке! — закричал дон Камилло.
Старик вздохнул. Дон Камилло опомнился.
— Магуджа, — сказал он умоляюще, — вы пока подумайте еще немножко, а я помолюсь, чтобы Господь просветил ваш разум.
— Это не имеет ни малейшего смысла, — ответил старый Магуджа. — Господь всю жизнь просвещает мой разум, иначе как бы я умудрился соблюсти все его заповеди? Но я не буду исповедоваться, потому что вы подумаете, что, мол, старый-то Магуджа, как в силах был, так задирался со священниками, а как дело запахло керосином, перепугался да сдался. Лучше в пекло!
Дон Камилло застонал.
— Если вы верите в Бога и в пекло, почему вы не хотите умереть по-христиански?
— Чтобы попам насолить! — упрямо твердил свое Магуджа.
Дон Камилло вернулся домой в страшном возбуждении и пошел говорить с Христом.
— Как же так, порядочный человек, а доведет себя до того, что подохнет как собака. А все из-за какой-то гордыни!
— Дон Камилло, — ответил Христос со вздохом, — там, где начинается политика, возможно все. На войне бывает так, что человек прощает своего врага, пытавшегося его убить, и делится с ним последним куском хлеба. Но в политической борьбе человек ненавидит своего противника, и из-за одного только слова сын готов убить родного отца, а отец — сына.
Дон Камилло походил туда-сюда, потом остановился.
— Господи, — он развел руками, — если на небесах записано, что Магуджа должен подохнуть как собака, то настаивать бесполезно. И да свершится воля Господня.
— Дон Камилло, не надо все переводить в политику, — строго сказал Христос.
Через пару дней городок облетела весть, что старого Магуджу прооперировали, причем на редкость удачно. Не прошло и месяца, как он появился в приходском доме, бодр и весел, как никогда.
— Теперь совсем другое дело, — сказал он. — Я бы хотел причаститься, чтобы поблагодарить Всевышнего общепринятым способом. Только это дело приватное: между мной и Ним, ни моя партия, ни ваша тут ни при чем. Так что было бы очень мило с вашей стороны, если бы вы не стали по этому случаю созывать со всей округи клерикалов с флагами и оркестрами.
— Ладно. Завтра в пять, — ответил дон Камилло. — Присутствовать будет только вождь моей партии.
Когда Магуджа ушел, Христос поинтересовался, что это еще за вождь объявился у партии дона Камилло.
— Это ты, Господи, — ответил дон Камилло.
— Дон Камилло, перестань все переводить в политику, — упрекнул его Христос. — А в следующий раз, когда ты решишь сказать, что в воле Божьей, чтобы кто-нибудь подох как собака, сначала немного подумай.
— Не обращай внимания, — ответил дон Камилло, — чего только люди не говорят.
Всеобщая забастовка
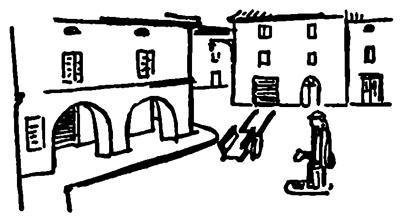
Дон Камилло курил свою половинку тосканской, сидя на скамейке перед приходским домом. И тут на огромной скорости влетел велосипедист. Это был Шпендрик.
Он освоил новый способ торможения — «по-тольяттински»: замысловатый маневр, заканчивавшийся тем, что Шпендрик оказывался позади велосипеда и стоял, зажав между ног заднее колесо, а иногда он оказывался лежащим в пыли, а велосипед — на нем сверху.
Дон Камилло наблюдал. Шпендрик затормозил «по-тольяттински», прислонил велосипед к стене церкви и бросился к двери, ведущей на колокольню. Дверь была заперта и дергать ее было бесполезно.
— Где горит? — поинтересовался дон Камилло, подойдя поближе.
— Нигде. Но надо созвать народ, а то власть совсем охамела!
Дон Камилло вернулся на скамейку.
— Поезжай на своем велосипеде и собери народ. Времени, конечно, на это нужно побольше, но шуму будет меньше.
Шпендрик смиренно развел руками:
— Ну ладно. Кто хозяин, тот и командует. А Дуче — всегда прав.
Он взял свой велосипед и отправился восвояси, но, завернув за угол, внезапно отшвырнул велосипед и рванул что есть духу бегом. Дон Камилло не сразу заметил этот маневр, а когда сообразил, в чем дело, было уже поздно: Шпендрик, как белка, карабкался по стене колокольни, ухватишись за стальной канат, ведущий к громоотводу, он преодолел уже полпути. Забравшись на верхушку колокольни, он первым делом втянул наверх все веревочные лестницы, а потом неистово зазвонил.
Дон Камилло поразмыслил и решил, что ждать Шпендрика обратно никакого смысла нет. Если пробил час народного гнева, то попытка огреть Шпендрика дубиной по башке будет рассматриваться как провокация. А провокации надо всеми силами постараться избежать. Поэтому дон Камилло вернулся в приходской дом. Но перед этим он завернул за угол и, отогнув защелки, снял переднее колесо велосипеда и забрал его с собой.
— Будешь у меня теперь тормозить «а-ля Де Гаспери», — проворчал он себе под нос и задвинул засов на двери.
* * *
Полчаса сумасшедшего перезвона, и площадь наполнилась народом. Когда все были в сборе, Пеппоне вышел на балкон мэрии и произнес речь.
— При реакционном и антидемократическом правительстве произвол становится законом. И поэтому вот закону преступное постановление о выселении арендатора Полини Артемия вступает в силу. Но народ защитит права товарища Полини и не позволит!
— Правильно! — закричала толпа.
Пеппоне продолжал в том же духе, потом была демонстрация протеста, потом состоялись выборы комиссии, потом комиссия сформулировала ультиматум префекту. Ультиматум был такой: или постановление прекращает свое действие и начинается процесс его аннулирования, или будет объявлена всеобщая забастовка. Срок для принятия решения — двадцать четыре часа.