Француженки не играют по правилам | Страница: 80
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Но… если его сердце так много стоит для него, а ее сердце не стоит вообще ничего… Все ее тело было заполнено слезами, и они уже жгли ей нос. Но она сдержалась и немного приподняла подбородок.
– Любишь меня достаточно, чтобы возвратиться со мной на острова?
Что-то дрогнуло в его лице. Он посмотрел вниз, на нее.
– Саммер. Я не могу опять стать ничем.
Она собрала всю свою волю, всю драгоценную, но все еще хрупкую веру в себя. И, взяв Люка за запястья, отвела его руки со своего лица.
– Вот и я тоже не могу.
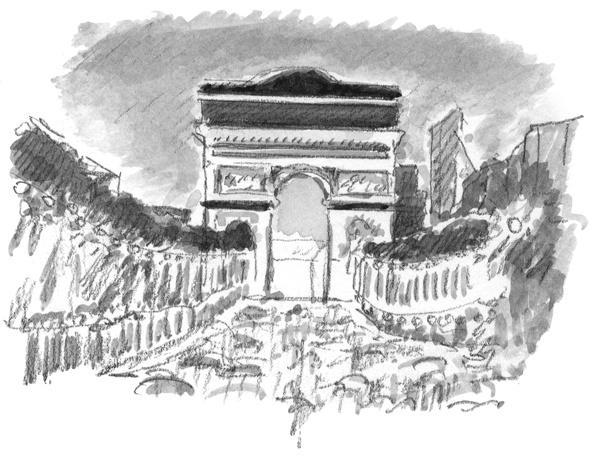
Глава 31
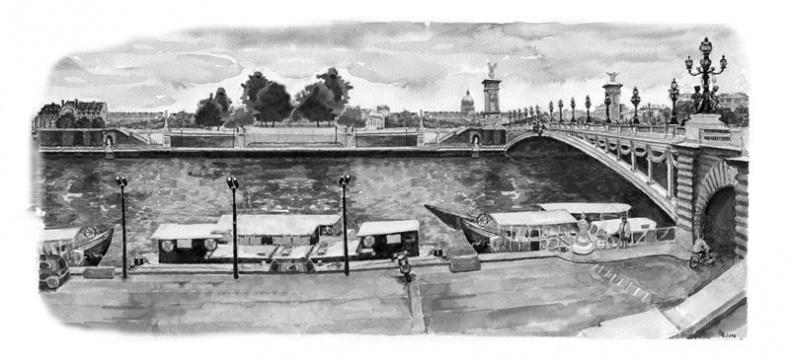
Люк был очень тих, когда они покинули Trocadéro. Но направились они не в отель, а к Сене и мосту напротив башни. Если бы в романтичном объятии она вошла под эти семь тысяч тонн железа, то, можно не сомневаться, показала бы башне средний палец.
Молодая пара на роликовых коньках промчалась, весело смеясь, по склону со стороны фонтана и Jardins du Trocadéro [148] . Люк успел стянуть Саммер в сторону, а потом так и не выпустил ее руки.
– Саммер. В этом я очень плох. Я всегда должен был десять тысяч раз практиковаться, чтобы все сделать правильно, а эта… практика причиняет слишком много боли. Не слушай меня, когда я говорю что-то не так. Смотри на то, что я делаю для тебя. Пробуй это на вкус. Для меня ты никогда не будешь «нулем».
Иногда она представляла себе, как Люк лежит в гамаке на ее острове, а она возвращается домой, к нему, проведя целый день за уговорами неугомонных детей сосредоточиться на вычитании… По силам ли ей такая жизнь? Она решила – да, она справится.
– Ты должен верить в меня, – внезапно поняла она. – Я не могу верить в тебя, если ты не веришь в меня. Это было бы чревато самоубийством.
Я просто еще недостаточно сильна, чтобы продолжать верить в себя, когда тот, кого я люблю, в меня не верит.
Люк молчал. Вряд ли он мог бы сказать, что верит в нее. Через несколько мгновений он поднял руку, чтобы заправить прядь волос ей за ухо, и большим пальцем погладил щеку прежде, чем волосы упали. Потом опять взял ее за руку, и они продолжали идти, не говоря ни слова. Люк был так погружен в раздумья, что даже не поглядел вверх, на Эйфелеву башню, когда они проходили под ее темными опорами. Саммер завела за спину свободную руку и из принципа показала башне презрительный средний палец.
Люк вовлек ее в ночную темную allée [149] между рядами деревьев Марсова поля, и Саммер зажмурилась навстречу судьбе.
– Только не говори мне, что живешь где-то здесь.
Он замялся.
– Почему нет?
– О, – она покачала головой, – я ходила здесь в школу.
Еще шаг.
– В квартале от меня есть женская школа для богатеньких девочек, – неохотно признал он.
– «Олимп»?
Люк кивнул. Душа Саммер содрогнулась и свернулась, приняв позу эмбриона [150] . Саммер лихорадочно начала искать хоть какое-нибудь счастливое воспоминание об этом красивом городе, в котором ей было непростительно быть несчастной. Она заставила себя улыбнуться.
– Няня часто водила меня сюда. Тогда я была совсем маленькой. Знаешь ту красивую карусель и детскую площадку возле нее?
– Я… знаю, да.
Под деревьями было слишком темно, чтобы увидеть выражение его всегда непроницаемого лица, но голос его прозвучал странно.
– Я безнадежно влюбилась в мальчика, которого однажды встретила там. – Саммер хохотнула. – Он тоже был темноволос, теперь я вспомнила. Возможно, с него-то все и пошло. – Она покачала головой. – Он показался мне великолепным. На детской площадке он мог сделать все. И был очень терпелив. Сначала он покрасовался передо мной, а потом поднял меня и помог достать до рукохода. И даже поиграл со мной в рыцаря и принцессу.
Люк совсем затих и странно замер.
– Я вспоминала его, много лет мечтала о том, как мы с ним убежали бы на остров и жили за счет лунного света и цветов, и все такое. Думаю, ты можешь догадаться, что у меня было не так уж много друзей.
Люк был черной тенью в темноте.
– Когда мы были в Париже, я обычно заставляла Лиз водить меня туда каждый день, и я растягивала свое время для игр на долгие часы, надеясь увидеть его. Но он так и не появился.
А потом была школа-интернат, совсем рядом с той детской площадкой, и эта школа надолго стерла память о нем.
– Он тогда, наверное, был занят игрой на бубне в метро у тебя под ногами, – внезапно сказал Люк. Голос его был грубым, странным. Будто годы элегантности соскользнули с него. – Но ему очень хотелось прийти к тебе. – Он положил руку ей на локоть. – Знаешь, а ведь тебе пришлось бы съесть лунный свет, если бы он приготовил его и принес тебе.
– В метро?
Саммер провела рукой по лицу Люка, будто была слепой и пыталась узнать возлюбленного из своего прошлого.
Изящные, чувственные губы скривились под ее ладонью.
– Ты когда-нибудь была там?
– Нечасто, когда училась в школе. Когда сбегала с уроков. Я… помню. – Она вспомнила, как метро пугало и возбуждало ее. Казалось, она делает что-то опасное. Она чувствовала себя недооцененной среди большого числа людей, которые ездили так каждый день. Шум, толкотня… люди, просящие подаяния. Иногда с аккордеоном, а иногда и с младенцем на руках. – Люк, почему ты так сказал? Почему тот мальчик оказался бы в метро?
Он не отвечал. Руки он сунул в карманы, плечи распрямил. Как красиво очерчены его плечи! И брови. Ей опять вспомнился тот мальчик, ее собственный рыцарь с темными, настойчивыми, требовательными глазами, неотрывно глядящими на нее… Жаль, что его образ уже давно стал мутным пятном.
– Люк?
Его плечи по-прежнему были напряжены. Его черное кашемировое пальто от Диора было… было сшитыми на заказ доспехами темного рыцаря, пролагающего свой путь в этом мире.
– Потому, наверное, что у него был цыган-отец, который не нашел лучшего способа обеспечить сыну жизнь, чем давать там представления. И еще потому, что его родная мать выбрала солнце, море и цветы вместо собственного ребенка. Не думаю, что она добилась бы в жизни большего успеха, чем мой отец, если бы осталась здесь. То, что она исчезла после появления новорожденного, не говорит о большой силе характера.