Восьмая нота | Страница: 31
- Georgia
- Verdana
- Tahoma
- Symbol
- Arial
Девочка ко мне вчера подошла во дворе, ну крошка крошкой, три года, не больше. Думаю, обозналась, видно. А она:
– Дядя, поздравляю тебя с новым днем.
И протягивает лист тополиный. Я растерялся, чем ответить, не знаю. Пока в кашле заходился, она исчезла. До сих пор очухаться не могу. Милость это Божья или что? Держу лист в руках и чуть не плачу. Думаю, по плечу мне такое чудо или нет? Не каждого ведь с новым днем поздравляют, а раз так, зерно надежды зародилось. Загорелся желанием мир удивить.
Песня одна во мне теплится, знаю, людям главным образом не извилин, песен не хватает. Извелись они совсем, от забот замучились, на догадки времени недостает. Вот спою, пусть словам добрым порадуются. Господь, он нас уму-разуму через песни учит. Нотная грамота глазам нужнее, уши нынче на другие дела идут. Сотовая связь из них совесть выела. Вот, говорят, тараканы от нее бегут. Неправда. Не от сотовой наутек пустились – от содержания разговоров в ней. Да ладно, даст Бог, образумятся. Меня вон тополиный лист надоумил.
Вернее, самому ума не хватило, девочка-крошечка подсобила, дураком помереть не дала.
– Спасибо тебе, детка, за грамоту нотную.
Ну, вот и выдохнул, а хватит ли сил на вдох, не знаю. Подмету почище, пускай люди любуются. Листья тополиные, правда, стороной обойду. Вдруг ей еще кого-нибудь поздравить понадобится. Вон их сколько осень от щедрот накидала. Смотришь – и петь тянет.
А эти все пиво пьют, пузыри, видно, пускать собрались. Как бы им соломинку протянуть, а не то, не дай Бог, подстилать придется. Дворник – почти дворянин. Имение есть, и до имени недалеко. Метры мету, место живое подыскиваю. Листок-то следующий вот-вот упасть обязан. Тут, главное, направление знать: локти – на север, ладони – на юг. И взорвутся тогда руки твои яростью пальцев, а на них время будет указано. Три-то стрелки, как на обычных часах, а две особенные. Одна от жизни бежит, другая – от смерти. А расстояние между ними есть имя твое.
Кукушка под одеялом
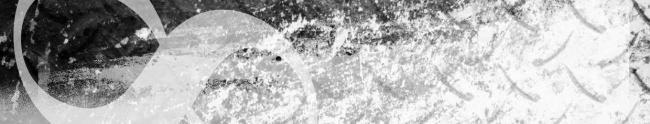
Воскресенье. Лежу под одеялом, вставать совсем не хочется. Под ним, что в сугробе, молодеешь – старость не тревожит. А попробуй высунься, складки мигом на тело перейдут. Там, в сугробах, они от синевы задыхались, а тут желтизной перекликаются. У женщин в преддверии зимы не тело, а сплошные перепевы бабьего лета. Порой так и валяюсь, пока не почувствую, что вот-вот сдохну от голода. Тогда вскакиваю, закрыв глаза, натягиваю скафандр халата, обматываюсь шалью для верности и плетусь на кухню наполняться. Нынче подумала, пусть помру, а не встану. Под одеялом тепло, ворочаюсь с боку на бок, оно меня как-то забыто теплом гладит. И вдруг в декабре в закрытое окошко – кукушка. Невестушка-вещунья. Откуда она? Думала, показалось. Прислушиваюсь, а она опять за свое: ку-ку, ку-ку. Собралась, было, считать, а она враз и улетела, испугалась чего-то, видно. К чему такое наяву на меня навалилось?
Вот тут и вспомнилось, как работала в поселковой школе. Самой старой там слыла, а тогда всего лишь за тридцать и перевалило. Девчонки молоденькие всё липли ко мне, о любви расспрашивали. Какая она эта любовь, да как бывает в ней это самое-самое? Я все отнекивалась: у самой-то почти ничего и не было. В институте как-то после новогоднего вечера разложил он меня на холодном полу в аудитории. Все лицо обслюнявил, оцарапал ноги, а там изгадил так, что до сих пор моюсь, моюсь, а оно где-то засело и кровит. Побыла, дура, раз ковриком, вот спину холодом до сих пор и обдает да внутри стыдом ломит. А они, дурочки, думали, знаю, какая она, эта любовь. Так бы тогда ничего и не вспомнила, да как-то по холоду занятия отменили. Заперлись мы в классной комнате, свечи зажгли. Вина красного выпили, яблоками от завуча закусили и так затосковали, хоть ревом реви. Вот и вспомнилось мне, какая она любовь бывает, не моя, конечно, а та, которую подглядеть довелось.
Автобус из поселка уходил рано, в семь утра, возвращался в шесть вечера. Два события за сутки, а так сугробы, потемки, редкий свет в избах да собачий лай от скуки. Она всегда опаздывала, мы ее ждали, дружно жалели. Ругались на нетерпеливого шофера, на холод собачий, на темень непроглядную. Она врывалась загнанной пенной лошадью, горячей от бешеного гона, гордой и виноватой в чем-то. Полыхала блинами с плиты, от нее пахло неведомым нам теплом. Полуодетая, с дикими от тысяч тайн глазами. Ей не хватало воздуха автобуса, она своим жаром снега могла топить в бескрайних полях нашего поселка. Поначалу думали, они с мужем скотину держат, деньжат решили подкопить да смыться с постылого места. Но, как оказалось, ни скотины, ни детей, ни родни в поселке. Потом решили, что попивают да буйствуют с тоски.
Но перегаром не несло: жар был какого-то неведомого нам свойства. Сидеть с ней рядом, что у костра находиться: лицо ломит, а спина от холода так и заходит. Одеваться в маленьком автобусе было не с руки, облачалась она в учительской, которая нам и клубом, и гардеробом служила. Благо, кроме физруков, мужиков в школе отродясь не бывало. Бабья это половина и доля бабья, как и зарплата, и заброшенность, и все остальное, если оно вообще существует. Не стесняясь нашего присутствия, она натягивала колготки, чертыхаясь при этом на мужа. Лифчик вытягивала из сумки с тетрадками, тут же всовывала туда свои маленькие аккуратные грудки и пуще прежнего бранилась на своего муженька.
Мы все ее очень крепко жалели, у нас поговаривали, что он ее частенько поколачивает за прежние грешки. Дружно упрашивали нашу техничку звонок давать попозже. Правда, случалось, и вовремя приходила, мы тогда смотрели на нее с удивлением. Она понимала наше недоумение:
– На суточные ушел черт мой, передышка вышла.
Вместо белья доставала из сумочки конфеты, всех нас угощала ими:
– Ешьте, девочки, ешьте, пусть у вас жизнь сладкой будет, как эти конфетки. Сколько фантиков наберете, столько писем от любимых получите.
Ну вот и слава Богу, хоть немного отдохнет от своего супостата. Тяжеленько живется нам, бабам, на белом свете, а на селе – хуже некуда. Хоть бы одеться-то давал толком, а не то чуть ли не нагишом бабу на мороз выпроваживает. Поди дождись этих его суточных. Хотели, было, уже жаловаться завучу на супруга ее окаянного. Мы-то все были дуры незамужние, в делах этих ничего не смыслили.
Как-то однажды такой мороз выпал, а ее нет и нет. Ну, и шофер меня послал поторопить «дуру полуодетую», а не то, говорит, мотор проморозит, и нам всем тогда хана. Взбежала на крыльцо, думаю, пусть только попробует не дать ей одеться, всю морду ему исцарапаю нахальную. Хотела потарабанить, а дверь сама отворилась. В сенях темно, хоть глаза выкалывай, так я и вторую без стука совсем открыла. Врываюсь в комнату, полную света и еще чего-то такого невиданного. Они на меня ноль с большим хвостиком, а я оглохла, онемела оттого, что такое бывает. Стою и слова вымолвить не в силах. А она была почти одетой, шубу осталось натянуть да шапку напялить. Он ее с ходу схватил на руки, как умирающий от жажды дождь пересохшим ртом хватает. Она застонала всеми птицами на свете и затихла. И тут таким вдруг счастьем полоснуло, что я невольно рукой прикрылась от него. И полетели, полетели птицы с постылого поселка на юга, к солнцу потянулись от нас. Забросали меня кофточкой, юбкой, комбинацией, колготками и еще чем-то почти невидимым. Нарядили, как елку новогоднюю, дуру любопытную.